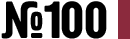ОЧЕВИДЕЦ
Зоя БОРИСОВНА ТОМАШЕВСКАЯ
Мне посчастливилось быть знакомой с Зоей Борисовной Томашевской (1922–2010) — удивительно открытым, искренним человеком, готовым часами рассказывать о людях, с которыми ее свела судьба: об Ахматовой и Бродском, Билибине и Осьмеркине, Шостаковиче и Рихтере. Многих она знала по кругу общения родителей. Ее отец, Борис Викторович Томашевский, — крупнейший филолог-пушкинист, один из лидеров формальной школы. У них дома, в знаменитой «писательской надстройке» дома № 9 по каналу Грибоедова, в 1930–1950-х годах собиралась интеллектуальная элита Ленинграда. С художниками и архитекторами Зоя Борисовна была связана по профессиональной деятельности: она училась в Академии художеств как архитектор, своими лучшими работами считала интерьеры ресторана «Нева» на Невском, Елисеевского магазина, «Литературного кафе». В ее воспоминаниях о городе Пушкине, которыми она поделилась для «Квартального надзирателя» летом 2010-го, важны даже мелкие детали и неточности. Это свидетельства очевидца. А. П.

Зоя Борисовна у себя в комнате — в Доме ветеранов-архитекторов. Октябрь 2010 года. Фото Алексея Тихонова
еред войной мама возила нас с братом в Детское Село, в Павловск или в Стрельну чуть ли не каждую неделю. В Детском в те годы жило много писателей, ученых, художников. Мы заходили к знакомым отца: к Толстым1, к Иванову-Разумнику2. Его арестовали в 1933 году, мне было одиннадцать лет, но я его помню. А когда летом 1940 года я поступила в Академию художеств, родители сделали мне подарок: на две недели отправили в Дом творчества писателей, который размещался в доме Толстого после его отъезда в Москву. Многих постояльцев я знала по нашему ленинградскому дому: Тихонова, Тынянова… Но я ни с кем в разговоры тогда не вступала, позавтракаю и сразу ухожу на целый день в парк.
<…> Летом 1941-го мы настолько не представляли, где немцы и что они уже взяли, что продолжали ездить в Пушкин гулять. Я помню катающегося на лодке художника Никаза Подбересского3, он был высоченный, ему, поклоннику Улановой, в театре ставили специальное кресло, иначе он не помещался в партере. Так вот, царскоселы в августе и предположить не могли, что в сентябре в городе будут хозяйничать немцы4.
Летом 1945-го, сразу по возвращении в Ленинград, я с моими московскими подругами из архитектурного института примчалась в Пушкин «спасать» его — обмерять для реставрации то, что еще можно было обмерить: Агатовые комнаты, Камеронову галерею.
Нас всех увлек Федор Федорович Олейник5 — архитектор, хранитель Павловского дворца, человек, обожавший и знавший Павловск до миллиметра. Он с утра до вечера собирал вокруг разрушенного дворца осколки, большие и маленькие, все, что осталось от каминов, мебели, штукатурки, и сортировал эти кусочки по несметному количеству коробков и коробочек. Он плевал на опасности, на мины, проводил в Павловске столько времени, что забыл обо всем остальном. И его четырнадцатилетний сын, решивший подражать отцу, подорвался на мине, собирая остатки дворца в Стрельне.
|
|

Сотрудники «Академстроя» и музейные работники осматривают разрушения Пушкина. 1946 год
лейник нас всех словно заразил своим подвижничеством. Ведь тогда было неочевидно, что дворцы будут восстанавливать. Едем мы с ним как-то поздним вечером из Павловска, вагоны все темные. Подъезжаем к Царскому Селу, слышим на перроне голоса архитекторов Грушке и Левинсона, строивших новый вокзал6. Грушке говорит: «Пойдемте найдем где по-светлее». А Левинсон отвечает: «Чего бояться? Кто там может быть? Ну еще один Олейник». Впоследствии Левинсон уговаривал меня идти к нему в мастерскую, именно она застраивала после войны Пушкин, но я предпочла мастерскую Олейника.
Екатерининский дворец тоже был сильно разрушен и разграблен. А вот Камеронову галерею, начиненную минами, удалось спасти. Мой учитель по академии Герман Германович Гримм7 и начальник отдела охраны памятников Николай Белехов примчались в Пушкин в январе буквально по следам немцев и своими руками, маленькими ручками кабинетных ученых, вытолкали эти бомбы в пруд.
|

Посетители Екатерининского парка в день его открытия у Камероновой галереи. 17 июня 1945 года. Фото Е. Эварт
|
оим первым объектом в 1948 году стала Морейская колонна, воздвигнутая в Екатерининском парке в честь морских побед Орлова. Ее уничтожили не немцы, а Павел, который ненавидел свою матушку Екатерину. Сохранился текст, который мне очень нравился, он заканчивался так: «Войск российских было числом шестьсот человек; кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он; в плен турков взято шесть тысяч». Я предположила, что буквы могут быть похожими на те, которые сохранились на Кагульском обелиске, поставленном в то же время по проекту того же Ринальди. Долго возилась, написала, подражая
мастерам того времени. Бронзовую доску отлили, ее и сейчас можно видеть на колонне.
|
|
А последней работой в Пушкине стал музей Ахматовой в гимназии, где она училась8. В 1998 году я переехала из Петербурга в Дом ветеранов-архитекторов. Ко мне пришел директор гимназии, целеустремленный, влюбленный в дело, и попросил помочь. Мы с дочерью Настей придумали макет, я подарила музею много книг, вещей, карту Царского Села, которую нарисовала мне Анна Андреевна, показывая, кто где жил. Школа за этот музей получила звание гимназии имени Ахматовой9.
Публика в Пушкине и по сей день отличается от петербургской. На улице люди одеты пристойно и скромно, ответят на любой вопрос. В Питере же ни к кому невозможно обратиться! Я очень рада, что снова стала царскоселом10.
|
|
|
|
|
1 Писатель Алексей Николаевич Толстой жил на Пролетарской (Церковной) улице, 6, с 1930 по 1938 год. Уезжая в Москву, отдал свой дом под
Дом творчества писателей.

2 Критик и философ Разумник Васильевич Иванов (1878–1946) поселился на Пушкинской (Колпинской) улице, 20, в 1907 году. После ареста был отправлен в ссылку в Новосибирск, но в 1939-м смог вернуться в Пушкин. Депортирован с семьей немцами в 1942 году. Умер в Мюнхене.
3 Никаз Леонардович Подбересский (1874–1953) преподавал рисунок в Институте гражданских инженеров.

4 Пушкин был оккупирован с 16 сентября 1941 года по 24 января 1944-го.

5 Федор Федорович Олейник (1902–1954) еще до войны занимался архитектурными обмерами дворца, копированием фресок. По словам директора Павловского
дворца-музея Анны Зеленовой, он мог по памяти нарисовать углем на стене любой узел конструкции.
6 За ансамбль Привокзальной площади архитекторы Евгений Левинсон (1894– 1968) и Андрей Грушке (1912–1989) в 1952 году получили Сталинскую
премию.

7 Герман Германович Гримм (1905–1959) — крупнейший историк архитектуры, в годы блокады вел регистрацию повреждений зданий от об стрелов и бомбежек. Почти все реставрационные работы в Ленинграде и пригородах проходили под его наблюдением.
8 Анна Горенко (Ахматова) училась в Мариинской женской гимназии на Леонтьевской улице, 17, в 1900–1905 годах.
9 Основу экспозиции составила коллекция царскосела Сергея Дмитриевича Умникова (1902–1998). С 1960-х он собирал рукописи, портреты, памятные вещи, имеющие отношение к Ахматовой. В 1996 году передал свой музей городу Пушкину.
10 Зоя Борисовна Томашевская умерла 1 декабря 2010 года. Похоронена на Казанском кладбище Пушкина.
|
|
|
|
№7 (100) июль |
 |
|