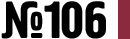Гравюры Якоба ван дер Шлея по рисункам Юрия Фельтена
еисповедимыми путями народного сознания гигантские размеры затерянного в лесу валуна оказались соотнесены с необычайно громким звуком, исходящим с неба в грозу. Так камень зазвучал, став Гром-камнем… Быть может, здесь про явилось поверье, будто когда-то давно этот гигант с диким грохотом рухнул на землю с небес? Но лахтинский камень земного происхождения: он родной брат суровых скандинавских скал, занесенный в местные болота ледником, как и другие похожие осколки. Местное языческое население почитало эти камни, населяло их духами, пришедшие позднее завоеватели-христиане постарались покорить и эти темные силы. Так еще один огромный валун — Конь-камень на острове в Ладожском озере — увенчали часовней, а рядом построили целый Коневецкий монастырь. Гораздо более скромному и все же заметному камню под Петергофом придали черты человеческого лица — так появилась в парке Сергиевка каменная голова, а мало кому известный камень в Удельной, на Дрезденской улице, украсили названием близлежащего ресторана, после же революции — еще и красной звездой. Лахтинскому монстру была уготована наиболее почетная судьба — служить основанием царственному
всаднику, для чего, словно продолжая работу ледника, его перетащили в самый центр Санкт-Петербурга. За столетия городской истории там скопилось немало гранитных монолитов: к примеру, с не меньшим трудом добытый, доставленный и установленный стоймя на Дворцовой площади камень, имеющий вид колонны, многочисленные другие колонны, прежде всего украсившие фасады соседа Медного всадника — Исаакиевского собора, наконец, не столь заметные блоки средней величины, из которых собрано каменное основание горда, опорные стены набережных, цоколи важнейших зданий…
| |
ахтинская глыба занимает среди них особое место. Скала вознеслась на площади возле берега реки, так, как если бы стояла здесь испокон веков: неправильная, неотесанная форма делает ее камнем вдвойне, даже втройне, камнем над всеми прочими городскими камнями! Однако эффектные очертания, более всего напоминающие застывшую волну, — дело
рук человеческих. Когда-то до половины ушедший в землю, покрытый мхом, да еще и с деревцом на макушке, Гром-камень с мягкими, немного аморфными формами менее всего напоминал экспрессивный, точеный постамент памятника Петру. Совсем другие скалы можно встретить в центре Выборга или финских городов, здесь же, на Сенатской площади, имеет место такой же обман, что и в каком-нибудь пейзажном парке, скажем в Царском Селе, где среди скудной северной растительности возникает призрак китайских прибрежных скал, несущих беседку Большого каприза. Нечто от тогдашнего паркостроения есть в самой нерегулярности постамента, противопоставленного традиционным параллелепипедам
или цилиндрам скульптуры прежних времен. Пускай до Медного всадника никаких монументов в Петербурге не было (статуи Летнего сада не в счет), но в странах Европы начиная с эпохи Возрождения воздвигали изображения малых и крупных правителей и почти всегда на геометрически строгих постаментах, — традиция, которой Этьен Морис Фальконе
сознательно противопоставил свое творение.
|

За время обработки камня сказочного леса вокруг не осталось вообще

Скалу весом в тысячу восемьсот тонн тащили по желобам, наполненным бронзовыми шарами
едь именно скульптору принадлежит замысел основания-скалы, и идея эта овладела им еще до приезда в Россию. Правда, поначалу Фальконе не верил, что в здешних краях отыщется такой большой валун, оттого и думал составить постамент из нескольких глыб. Но два года поисков в окрестных лесах увенчались успехом, а план доставки Гром-камня из Лахты в центр города увлек державную заказчицу — Екатерину II, которой, наверное, хотелось удивить тем самым и собственных подданных, и весь остальной мир. Кроме
того, идею поставить конную скульптуру царя-основателя именно на эту глыбу подкрепили легендой, будто Петр Гром-камень этот знал, взбирался на него, дабы осмотреть залив.
Впрочем, на старинной гравюре тот показан в чаще леса, да и пруд, что остался в лесу Конной Лахты на месте выкорчеванного монолита (сейчас вокруг него создали природный
заповедник), удален от берега на восемь километров. Но то, что царь в этих краях бывал, путешествовал по морю вдоль северного берега Невской губы, от Ближних к Средним и
Дальним Дубкам. И почти в том месте, где камень потом грузили на гигантский плот, корабль самодержца потерпел поздней осенью 1724 года крушение, следствием которого стали болезнь и смерть царя. Но этот в своем роде надгробный камень следовало перевезти в то место, где при Петре была воздвигнута церковь, призванная напоминать о его именинах (на день рождения царя приходится память святого Исаакия Далматского), разрушенная наводнением и вновь возведенная на своем теперешнем месте. Были у плана установки Гром-камня в центре Петербурга свои противники, среди них архитектор Юрий Фельтен, которому не могло, конечно, нравиться, что некий приезжий ваятель вторгся на его, архитектора, территорию: это ведь зодчему полагалось разрабатывать проект постамента. Кроме того, его и других пугала рискованность затеи, а также непривычный облик «природного» основания скульптуры. Что касается страха потерять камень при транспортировке по воде, то, как гласит легенда, нечто подобное случилось затем с аналогичным куском камня, который для Павла I везли по морю аж из Выборга, да где-то по дороге случайно утопили. Сто лет спустя его нашли и использовали для памятника адмиралу Макарову в Кронштадте. Даже если история вымышленная (и что за памятник хотел воздвигнуть на этом камне сын Екатерины?), не вызывает сомнений, что кронштадтский монумент — один из многих примеров популярности в XIX–XX веках таких вот природных мотивов, завезенных в Россию как раз Фальконе. Можно еще вспомнить «Стерегущего» или же бюст Пржевальского наискосок от Медного всадника.

Осколки исполина на лахтинском пляже
| |
днако в середине XVIII столетия постамент такой «естественной формы» казался здесь чем-то диковинным. Фельтен, наверное, предпочел бы видеть вместо него нечто похожее
на прямоугольный блок, которым снабдил позднее Винченцо Бренна другого Петра, установленного перед Михайловским замком. Почему? Наверное, они считали, что основанию памятника не следует быть излишне выразительным и вообще что-либо изображать (речь не о рельефах, но об уподоблении постамента в целом не то скале, не то волне). Курьезным образом этот конфликт повторился в XX веке, когда консерваторы, торжествовавшие победу над конструктивизмом, обрушились и на памятник Ленину у Финляндского вокзала, точнее, на его постамент, как известно, воспроизводящий башню бронеавтомобиля. Такой изобразительный мотив противоречил классической традиции, здесь, по мнению ее защитников, следовало помесить нечто более лаконичное, наверное, простой параллелепипед с надписью. Вот и лахтинский камень нужно было распилить, отесать, собрать из отдельных блоков строгий классический пьедестал, дабы не казалось, что всадник взобрался на скалу и, подняв своего коня на дыбы, решает, продолжить ему путь, решительно преодолев зияющую пропасть, или же вернуться. Не случайно и у Пушкина оживает именно этот Петр, а не крепко приделанный к своему традиционному основанию, к тому же никуда не спешащий памятник, установленный по приказу Павла I.
Но Фальконе вовсе не порывал с традициями, не предлагал чего-то «почти авангардного», отнюдь. Его камень просто принадлежит другому направлению европейской культуры, тому пути исканий и экспериментов, которому следовали величайшие предшественники француза: Микеланджело, открывший особую красоту и витальность не до конца обработанных каменных кусков, и, конечно же, Джованни Ллоренцо Бернини, украсивший римские фонтаны «естественными» глыбами из тамошнего аналога гранита — травертина. Именно с итальянской барочной традицией, а вовсе не с павильонами пейзажных парков, связан сделанный Фальконе смелый выбор. По существу, он ничего и не придумал, лишь воплотил
идею Бернини, за столетие до Медного всадника предложившего соотечественникам Фальконе увековечить именно в таком виде своего короля-солнце, Луи XIV. Только тот памятник был бы не медным, а мраморным и потому вместо змеи его устойчивость обеспечивала условная подставка под брюхом коня. Ее продолжением и основанием всей скульптуры должен был послужить массивный камень, который Бернини нарисовал, а исполнение доверил местным мастерам, ибо везти такой постамент в Париж из Рима было бы слишком странно. Но французы (местные Фельтены!) не оценили замысел мастера барокко. По целому ряду причин памятник отвергли и заказчик (то есть сам король), и культурная общественность, его сослали в глубь версальского сада, поставив там на самый обыкновенный прямоугольный постамент. Возможно, их оттолкнула идея неустойчивости положения короля на неровной каменной глыбе, хуже того — на краю пропасти. А кто знает, что там, за краем?
рошло много лет, и благоприятное стечение обстоятельств — увлеченность Екатерины, молодость Петербурга, располагавшего к разного рода техническим и архитектурным экспериментам, наличие крупных камней в лесах вокруг столицы, точно кем-то заготовленных еще в ледниковый период, — позволило воплотить мечту одного из величайших скульпторов, Бернини. Одновременно городу и миру подарили не просто величественно-дерзкий, но и весьма неоднозначный образ: взнуздавший коня над бездною, торжествующий над стихиями, простерший руку в сторону реки, залива, в конечном итоге — Лахты, одновременно стихией погубленный, как бы на собственный надгробный камень взобравшийся творец странного северного города, с высоты взирающий ныне на последствия своих грандиозных идей. Иван Саблин
|

Петру пришлось бы по душе такое зрелище: постамент прибыл в город морским путем
|
|
|
|

На карте 1794 года видны дороги, что проложили из Кохтулы (Конной Лахты) для доставки скалы на берег

Постамент в виде застывшей волны — такая же скульптура Фальконе, как и фигура всадника

Екатерина II, посетив в январе 1770 года лахтинский лес и ознакомившись с трудовым и инженерным подвигом, повелела отчеканить медаль «Дерзновению подобно»

Адмирал Макаров в Кронштадте тоже стоит на гигантском монолите

В престольный праздник, 12 июля, к часовне и камню на берегу жители Лахты ходили крестным ходом


Бернини предлагал поставить Людовика XIV на скалу, но французские Фельтены подложили коню под брюхо традиционный параллелепипед

Петр Шамшин. Петр Великий спасает утопающих на Лахте 1844 год
Последний подвиг Петра
5 ноября 1724 года Петр отправился из Петербурга в Сестрорецк, чтобы осмотреть оружейные мастерские. Близ Лахты с царской яхты заметили бот с солдатами, который сел на мель. Петр с командой отправился к терпящим бедствие на шлюпке, но и она не смогла подойти близко. Тогда царь спрыгнул в воду, и добрел до бота по пояс в ледяной воде. Общими усилиями все были спасены, но сильная простуда обострила давние недуги Петра и через три месяца он умер. Лахтинский культ царя, начавшийся с перевозки камня, продолжился в памятниках, прославляющих тот подвиг. На одной из сосен-«свидетельниц» недалеко от камня бы закреплен киот с иконами, в начале ХХ века рядом с ним поставили часовню, проект которой создал известный архитектор Василий Шауб, лахтинский дачник. Иконографию «Петра спасающего» пополнили художники и скульпторы. Петр Шамшин изобразил событие как в «историческом» фильме из Голливуда. Профессиональные статисты, симпатичные, причесанные и с мылом вымытые, только что «снялись» у Брюллова в «Последнем дне Помпеи». В 1909 году на Адмиралтейской набережной установили скульптуру Леопольда Бернштама «Петр, спасающий моряков в Лахте». Все это работы ремесленного официоза, но вот «Газпром» намерен памятник Бернштама воссоздать и установить в «Лахта-центре».

Алексей Афанасьев. Петр, спасающий в Лахте погибающих солдат. 1914 год

Памятники Бернштама на Адмиралтейской набережной «Петр спасающий» и «Петр плотник» сняли в 1919 году

Стенд на пляже напоминает, что здесь была часовня и пристань

Сосна погибла при наводнении 1924 года, часовню снесли в 1930-е
|