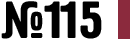тех пор как в начале XX века Александром Бенуа была высказана парадоксальная по тем временам мысль о красоте Петербурга и многие архитекторы и заказчики стали склоняться к принятию этого парадокса, встал вопрос: что делать с историческим центром? Если он весь — произведение искусства, надо его сохранять, избегая радикальных преобразований. И несмотря на разрушительный пафос авангарда, легко усвоенный советским правительством, деятельность зодчих в 1920-е отличалась деликатным отношением к старому Петербургу. Смелые идеи они осуществляли на рабочих окраинах, где и сейчас лишь немногие могут разглядеть в их творениях памятники, в свою очередь достойные сохранения, — любителям искусства этот город неведом.
Из всего конструктивизма — подарившего Ленинграду реализованных проектов чуть ли не больше, чем Москве! — в центре города заметен, пожалуй, только Дом политкаторжан на Троицкой площади. Остальное прятали, только б не навредить исторической картине. В 1930-е же годы предложили еще более радикальное решение: строить новый город на новом месте (в районе станции метро «Московская»), не в последнюю очередь ради сохранения старого. Зодчим самим было нелегко найти место для грандиозных проектов среди плотно застроенных исторических кварталов с поразительно высокой сохранностью «старого быта».
Осуществлению утопического замысла нового Ленинграда помешала война. И после ее окончания следовало прежде всего восполнить утраты в центре, при этом соблюдался принцип контекстуализма, доведенный до такого совершенства, что многие сталинские ансамбли кажутся существовавшими чуть ли не с XVIII века — та же Троицкая площадь или район Финляндского вокзала. В том же духе строились кварталы на окраинах, к примеру на Большой Охте, так что не новое вторгалось в старое, а скорее, наоборот, последнее распространяло власть и влияние на новые районы. Слом 1954 года, когда было принято постановление о борьбе с излишествами, означал низвержение архитектуры в болото массового строительства. Но и тогда зодчие проявили редкий такт по отношению к классическому центру, который они продолжали аккуратно реставрировать, пока на периферии
решали квартирный вопрос. И даже там бетонные бараки прятали в глубине кварталов, используя озеленение, так что быстро растущие тополя через пару лет уже могли скрыть
непритязательный облик панельных домов. Их и задумывали, как временную меру — до скорого наступ ления коммунизма, потому сначала не стремились выставлять напоказ, почти стыдясь их серых, грязных, в швах и потеках стен.
округ Смольного, где реконструкция прежней окраины, не отвечавшей амбициям давно уже переселившейся сюда власти, приобрела в послевоенные годы поистине московский
размах (так что от старины, кроме Смольного собора, остались еще только пара-тройка зданий), ни при Хрущеве, ни после жилищного строительства не предполагалось. Однако кому-то в голову пришла мысль, что за окном у чиновников должны непременно вырасти жилые дома как демонстрация заботы о человеке, причем образцовые, построенные качественно и не без претензий. Так возникла Свердловская набережная. К этому времени (начало 1970-х годов) архитектура переросла и самые высокие деревья, ибо нормой
стали девять-двенадцать, а не пять-шесть этажей, как прежде. Погружение зодчества в сугубую утилитарность уже не воспринимали как временное явление. В профессиональной и популярной литературе тогда много писали о совершенствовании качества архитектуры. Писатели-сатирики осторожно подшучивали над однообразием новой застройки и дефектами домостроения, специалисты же все больше воспринимали многоквартирные дома, а не мифические хрустальные дворцы коммунизма, как лучше всего отвечающие потребностям советского человека.

Вид новостроек Охты и Полюстрова с вертолета. Начало 1980-х годов
|
|
оявились новые излишества — в сфере планировки. Здесь был превзойден человеческий масштаб, ибо если с земли новые дома казались невыносимо скучными, то в проектах, а также при взгляде с борта самолета или из космоса поражали замысловатостью и своеобразной красотой. Во-первых, отдельные строения хитрым образом сплетались в узоры, во-вторых, планируя новые районы, зодчие стремились развивать самые разные градостроительные традиции, в изобилии представленные на карте Петербурга. Архитекторам хотелось оставаться художниками, ведь проектирование жилых коробок было бы по плечу и студенту-чертежнику. И при Брежневе панельные дома не подпускали даже к границам исторического центра. Гражданка, Купчино — все это жителю старого города долго казалось чем-то далеким, почти что другой планетой. Разве только морской фасад точно ни от
кого не прятался, но и он был окраиной, хотя и парадной. Спальные районы прятали так искусно, как не прятали заводы, которыми в колыбели трех революций полагалось гордиться! Соседство ЛМЗ или городского «Водоканала» никого в Смольном смутить не могло, иное дело жилые кварталы. Если уж строить жилье, то не просто по индивидуальному проекту, но в виде ансамбля. Тогда прямо говорили, что зодчим предстоит вступить в диалог с собором Растрелли, причем на языке современной архитектуры, а вовсе не барокко! И по окончании возведения кварталов на набережной заключили, что Александру Васильеву, руководителю Архитектурной мастерской № 4, ответственной за Красногвардейский район, этот диалог удался. В пилонах первых двух этажей новых домов, в организации парадных дворов, более напоминающих, правда, курдонеры начала XX,
нежели соборы XVIII века, нечто подобное и впрямь можно увидеть.
Может быть, лучшее в осуществленном комплексе — это не монотонные громады с механическим чередованием вертикалей и горизонталей, а общий замысел и его самая заметная часть — набережная. Не только здесь, но и во всем городе советским архитекторам, пожалуй, удалось возродить традиции екатерининского времени, ведь почти все набережные Петербурга относятся либо ко времени правления этой царицы, либо к 1950–1980-м годам. Все так привыкли к ним, что едва ли могут допустить: многие городские протоки оделись в гранит совсем недавно. Вот этот гранит, равно как и бульвары, и монументальные спуски к реке, лучше всего дает понять, что значит искомая «традиция без стилизации», чего о домах Васильева не скажешь.
пожалуй, нигде в Петербурге нет такой просторной, а главное, живой, всегда полной гуляющих, отдыхающих, играющих жителей набережной. Настоящий общественный центр удалось создать, казалось бы, из ничего — вместо низменных берегов на частично намытой территории возникла удивительная комбинация проспекта и парка, оригинальный променад. В те же годы широченной набережной снабдили и Выборгскую сторону, но там, между Гренадерским и Кантемировским мостами, почти никто не живет, отчего те променады всегда пустынны. В старом же городе единственный скромный аналог — бульвар на Адмиралтейской набережной. Все прочие тротуары у береговых оград оставляют гуляющим мало места.
Но теперь и для прогулок по Свердловской набережной возникло неожиданное препятствие. Посреди проезжей части воздвигнуто сплошное металлические ограждение, при этом оставлен лишь один регулируемый переход — недалеко от устья Охты. Конечно, в прежние времена движение по набережной было не столь интенсивным. Критики, кстати, отмечали, что в первых этажах наряду с выставочными залами, магазинами и кафе неплохо бы предусмотреть и подземные гаражи, разумеется на будущее, которое уже давно наступило, но ни гаражей, ни переходов…
Нижний этаж образовался за счет перепада рельефа (целых 3 метра), явления для центра города уникального. Дома стоят на пологом холме, в который словно врезаны те самые курдонеры перед домами повышенной этажности. Широкие лестницы к проезжей части ведут, по сути, в никуда, ведь переходов на ту сторону больше нет. Зато мостики, переброшенные через курдонеры, — мотив из словаря Ле Корбюзье, страстно желавшего защитить пешеходов от автомобилистов, — в общем-то, нелепы. По замыслу великого модерниста их следовало бы перебросить через проезжую часть, иначе получается, что архитекторы умудрились возвести мост вдоль реки, а не поперек, что, пожалуй, было бы логичнее.
Впрочем, жители домов все равно как-то пробираются к невскому променаду, будучи счастливыми обладателями квартир с видом на Смольный монастырь и без вида на собственные дома, тогда как с другой стороны реки нынешние чиновники могут регулярно любоваться зрелищем веселой общественной жизни на берегу, подле не самых уродливых жилых кварталов.
|
|
|
|

Для этого таинственного обелиска не нашлось места в каталоге монументальной скульптуры

Таких судов у причалов Свердловской набережной уже давно не видели

Цветы, кусты, газоны — зодчие не забыли об озеленении своего ансамбля

Функциональная деталь — шахта вентиляции цокольного этажа — не без претензий на скульптурность

Ближайший мост через Неву — Большеохтинский
|