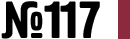Первый проект Кричинского, удостоенный в 1910 году лишь третьей премии. Кроме пяти куполов, здесь все не так, как в окончательном варианте
сли следовать по главной магистрали города в той ее части, что по традиции называется Староневским проспектом, на короткое мгновение в перспективе Полтавской улицы взгляду явится нечто необычное — то ли крепость, то ли монастырь. Еще лучше этот ансамбль виден с перрона Московского вокзала. Если верить легенде, в советское время церковь окончательно обезглавили из опасения, что следовавший в Ленинград по железной дороге вице-президент США Ричард Никсон обратит излишнее внимание на это несоветское сооружение.
А когда-то, как представляется, храм задумали именно таким — не вполне петербургским. Чтобы приезжим из Центральной России казалось, что столица встречает их причудливым осколком допетровской Руси. Теперь его немного скрывают более поздние вокзальные постройки, но воссозданные купола хорошо заметны.
прочем, к началу возведения этой церкви (1911 год) в столице уже не боялись экспериментировать с самыми неожиданными стилями. В двух шагах от Петропавловской крепости только что построили среднеазиатскую мечеть, а подле Марсова поля чуть раньше открыли наконец роскошную церковь Спаса на Крови, словно прибывшую прямиком из Первопрестольной. Ее фактический заказчик — император Александр III — настоял на том, чтобы своим обликом памятник его отцу воспроизводил именно древнерусские церкви. И в том, что касается деталей — кокошников, луковиц, шатров, — они воспроизведены почти буквально.
В 1910-е годы такое копирование русской старины, казалось, уже вышло из моды. При всей консервативности церковных властей мотивы стиля модерн проникли и в православное храмостроение, и на улицах двух столиц на смену пестрым и скрупулезным подобиям храмов XVII века пришли лаконичные громады псково-новгородских церквей. Красным (неоштукатуренным кирпичным) храмам решительно предпочли белые (белокаменные или беленые). Но перед самой революцией всеобщее разочарование в модерне вкупе со все более серьезным изучением древнерусской архитектуры, ну и, конечно же, последние попытки удержать народонаселение страны в повиновении монаршей воле породили новую волну копиизма. Ее кульминацией стал точный слепок церкви Покрова на Нерли — Спас на водах в конце Английской набережной (снесен в 1930-е).
Максимальной же концентрации «Древней Руси» достигли в Царском Селе, где построили главный храм, увековечивший трехсотлетие дома Романовых. Творение Владимира Покровского, однако, никаким образцам не следовало, и его смелый облик разбавили игрушечным Федоровским городком. Автором городка был Степан Кричинский, параллельно трудившийся над аналогичным собранием архитектурных декораций у Николаевского вокзала. Этот зодчий успел поработать во всех стилях, популярных в России в начале XX века: для художника Павла Щербова построил в Гатчине коттедж в духе английского движения «Искусства и ремесла», для бухарского эмира (сам зодчий происходил из польско-литовских татар) — ренессансное палаццо на Петроградской стороне, для графини Елизаветы Воронцовой-Дашковой — усадьбу в стиле ампир в Шуваловском парке, ну а для царя — нечто из времен призвания Романовых на царство.

Перенос святынь из подворья Городецкого монастыря в Федоровский собор. После этого церковь на Полтавской была разобрана
| |
рам — напоминание о славных днях выхода России из состояния смуты под водительством новой династии собирались сначала возвести в центре Петербурга, на Троицкой площади. Старейший собор города уже давно обветшал, а затем и вовсе сгорел, к тому же всем так хотелось закрыть русской церковью голубые купола мечети. Но затем инициативу на себя взял владевший участком у вокзала Городецкий монастырь, на подворье которого и построили новый храм. Феодоровская икона Божией Матери, ныне хранящаяся в Костроме,
в XIII столетии находилась в соборе именно Городецкого монастыря. Название ее связывают с церковью Феодора Стратилата, куда она попала затем. По легенде, этим образом благословили на царствование первого Романова — Михаила Федоровича, пережидавшего в Костроме Смутное время. С той поры икону считали семейной реликвией царствующего дома, отчего большинство русских императриц при переходе в православие получали отчество Федоровна.
Извод иконы в обрамлении древа, в ветвях которого изображены известные русские святые, был воспроизведен на фасаде Федоровского собора мирискусником Сергеем Чехониным,
затем утрачен, а ныне воссоздан. Храм было велено проектировать в стиле времен воцарения Романовых, хотя в разоренной смутой России никакого стиля и не было. Участники конкурса как могли выпутывались из непростой ситуации. Больше других преуспел Николай Васильев, получивший в 1910 году первую премию. Однако строить церковь поручили не ему, а занявшему лишь третье место Степану Кричинскому (кстати, помогавшему Васильеву строить петербургскую мечеть). Замысел Кричинского показался кому-то на самом верху более определенным: не начало XVII века с его едва уловимым стилем, но конец, причем не в московском, а в более строгом и монументальном ростовском варианте. В Ростове Великом митрополит Иона Сысоевич в 1670-е годы возвел тоже довольно игрушечный кремль (по сути, свой дворец).
Относительно первоначального проекта Кричинского здание стало роскошнее и эклектичнее, словно кто-то вознамерился создать настоящий музей древнерусского зодчества с невероятным сочетанием разно образных цитат. Автор проекта, словно предчувствуя конец церковного строительства в России, вызванный приходом новой Смуты, подводил его итоги. Поскольку «кремлевская стена» в отличие от средневековых крепостей не замкнута, комплекс можно было достраивать вдоль Миргородской улицы, пополняя этот архитектурный «музей» все новыми экспонатами.
В действительности же даже внутреннее убранство собора не было завершено. В 1932 году его передали предприятию «Союзмолоко», тогда исчезли купола, затем икона на фасаде. Впрочем, и после визита Никсона причудливое сооружение сохраняло церковные черты, странно сочетавшиеся с индустриальными деталями. Никуда не делись и «кремлевская стена», и украшавшие фасад кресты… Так что восстанавливаемый ныне Федоровский собор нельзя назвать новоделом. Ему повезло несравнимо больше, нежели другой церкви Кричинского — храму Палестинского общества, что зодчий построил в начале той самой Полтавской улицы, которую замыкает краснокирпичная стена. Диалог двух построек в русском стиле продолжался недолго, в том же 1932 году церковь на 2-й Советской взорвали. А храм-памятник остался, став со временем памятником и тому древнему зодчеству, что погубил своими реформами основатель города, Петр Алексеевич Романов. И. С.

Уничтоженная в советское время майоликовая икона вновь заняла свое место на фасаде собора
|
|
|
|
|
Личный опыт
Татьяна Безрученко
 |
прихожанка Федоровского собора, певчий и звонарь
|
Почему я хожу именно в Федоровский? Мне здесь хорошо, как дома. Моя степень вовлеченности в литургию здесь выше, чем в других храмах. У нас священник читает Евангелие на двух языках, церковнославянском и русском, что делает текст доступнее. Тайные молитвы анафоры, обычно произносимые священником в алтаре вполголоса и неслышные прихожанам, у нас звучат отчетливо и громко. Молитвы перед причастием произносятся всеми собравшимися хором. В литургии есть момент, когда священник возглашает:
«Христос посреди нас!» — а прихожане отвечают: «И есть, и будет!» Это приветствие у нас сопровождается целованием друг друга, ближних, стоящих рядом. По храму словно
проходит волна ликования! В других церквях такого нет, священники лишь приветствуют друг друга в алтаре. В хоре у нас нет певцов, поющих за деньги, поют прихожане. Для поддержания качества звучания с певчими проводятся репетиции и уроки сольфеджио. Сейчас бурная деятельность приостановилась из-за реставрации — нет детской театральной студии, киноклуба, курсов французского, но удалось сохранить спевки, детские литургии и воскресную школу, лекторий и очень ценные для меня евангельские чтения по
понедельникам. Как я стала звонарем? Сначала из любопытства на Пасхальной неделе попросилась на маленькую колокольню над часовней. Мне, по счастью, разрешили, хотя
это было небезопасно — лезть под купол по приставной лестнице, по крыше. После, загоревшись, пошла учиться во Владимирский собор, где есть специально оборудованная
учебная звонница. После реставрации нашей большой колокольни мы почти всегда звоним здесь. Чтобы задействовать все одиннадцать колоколов, нужны три-четыре звонаря,
если я звоню одна — использую семь-восемь. Звоны — классические, адаптирую к тому набору колоколов, который у нас есть. Иногда сочиняю сама: консерваторское образование помогает.
|