
Сегодня Новознаменку занимает частная общеобразовательная школа, для солидности называемая международной
дин из пионеров изучения петербургской архитектуры Владимир Курбатов в 1925 году советовал туристам непременно отправиться в Стрельну на трамвае, так как на большей части пути все еще сохраняется дивная картина старинных садов и парков, тогда как исчезновение некоторых усадебных построек при быстром движении не слишком заметно…
Здесь, надо историческом берегу, умело используя как перепад рельефа, так и многочисленные стекающие в Финский залив речки и ручьи, садовники за два столетия создали череду пейзажных парков. Однако современный путешественник уже не может любоваться картиной только усадеб и парков, куда бы он ни направлялся — в Стрельну ли, Петергоф или Ораниенбаум, всю дорогу современность будет властно напоминать о себе. На смену частным землевладениям с их эффектными архитектурными формами давно пришли унылые промзоны и столь же унылое массовое жилье. Не только в России, где войны и революции в XX веке так решительно преобразили и сельский, и городской пейзаж, но и в других странах, уж коли феодальное земледелие давным-давно отошло в прошлое, власти всячески способствуют — например, высокими налогами — освобождению дворцов и замков от их
прежних хозяев. Далеко не все они становятся затем музеями, многое исчезло без следа, уступив место более эффективным хозяйствам, ведь природа нужна человеку не только для отдыха и прогулок…
Впрочем, что касается собственно парков, советская власть, объявив войну дворцам, едва ли имела что-нибудь против зеленых насаждений, наоборот, навязчивая идея города-сада сопровождала отечественную архитектуру на протяжении почти всего XX века. Где-нибудь в кварталах 1960–1970-х годов рядом с быстрорастущими тополями и прочими
кустарниками можно и поныне отыскать остатки прежних дач — плодовые деревья, а то и старинные дубы. Старые парки старались сохранять, создавали новые — все в том же, унаследованном от эпохи Просвещения стиле, с прудами или даже каналами (Дудергофский канал вдоль Петергофского шоссе).

Круглые верхние окна в актовом зале хотя бы отдаленно напоминают эпоху барокко
доль Петергофского шоссе словно специально оставили кое-какие фрагменты былой роскоши, способные проиллюстрировать этапы истории русского зодчества, так чтобы экскурсовод мог при стремительном движении автобуса произнести привычное «посмотрите налево» и добавить еще пару дежурных фраз. Так, у развилки на Красное Село заметен господский дом в бывшей усадьбе Александрино, это пример классицизма: он традиционно желтого цвета, трехчастный, композиция развернута по горизонтали и так далее.
Спустя пять минут по той же стороне у самого края города (перед железнодорожным переездом, где автобус может и постоять несколько минут) виднеется образчик предшествующего периода строительства усадеб в России, барочная Знаменка, она синего цвета, как у Растрелли, более компактная, вертикальная, без колонн. Но тоже с куполом посередине.
На самом деле оба дома фактически заново отстроены после войны, причем возможность беглого знакомства с ними по пути в «столицу дворцов и фонтанов» не требовала воссоздания внутреннего убранства, от него в том и другом случае отказались. Если подойти ближе к Знаменке — на это у гостей города, конечно, тоже времени нет, — можно заметить, что детали старинного дома отличаются некоторой корявостью.
Тяжелые консоли балкона — следствие реставрационных искажений. Но откуда взялись грубые наличники окон третьего этажа или арки лоджий по краям — по всей видимости,
первоначально открытых, похожих на точно так же остекленный позднее гигантский коридор здания Двенадцати коллегий (главный корпус СПбГУ)?
|
|

И вправду похоже на дворовую галерею здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове
редположение об авторстве Антонио Ринальди — одного из самых утонченных зодчих той эпохи — явно такому впечатлению противоречит. Зодчему, правда, принадлежит одно
строение на бывшем морском берегу, замыкающее эту выставку дворцов и усадеб, — павильон Катальной горки в Ораниенбауме. Он тоже синего цвета, тоже вертикальный, чем,
собственно, сходство и исчерпывается. Ближе к истине, пожалуй, те, кто еще до войны называл автором усадьбы Воронцовых не слишком заметного Джузеппе Трезини, одного из трех носителей этой фамилии в Петербурге XVIII века. Трезини (вероятно, первоначально Треццини — Trezzini) в отличие от Ринальди происходили не из Италии, но из Швейцарии, давшей мировому зодчеству немало ярких имен, таких как Франческо Борромини, Ле Корбюзье или модные ныне Херцог и де Мерон. Всем им приходилось искать работу за пределами родины, не слишком щедрой на заказы, зато традиционно высокая строительная культура позволила Швейцарии снабжать строителями всю остальную Европу.
Вот и первый зодчий Петербурга Доменико Трезини оказался уроженцем этой страны. Позднее здесь работал Пьетро Антонио, которого раньше считали сыном Доменико — вероятно, по ошибке. А вот Карло Джузеппе приходился первому зодчему города зятем (в те времена, породнившись с уважаемыми в профессии людьми, не грех было и взять их фамилию). Впрочем, ничего выдающегося этот Трезини не создал. Самое известное творение — храм Трех святителей подле выстроенного позднее Андреевского собора на 6-й линии Васильевского острова. Эта зимняя церковка смотрится рядом со своим соседом какой-то бедной родственницей. Тяжеловесные, приземистые формы ее напоминают немного Сампсониевский собор на Выборгской стороне, выстроенный тогда же и, кто знает, быть может, по проекту того же зодчего. Ложное пятиглавие увенчало этот собор немного позже, первоначально там был такой же простой деревянный купол, похожий на навершие дома в Новознаменке. Кстати, и упомянутую ранее галерею Двенадцати коллегий считают постройкой Джузеппе. А самое курьезное его творение — протяженное здание Сухопутного шляхетского корпуса, пристроенное со стороны Съездовской линии к Меншиковскому дворцу. Кто не верит, что архитектура бывает смешной, пусть пройдется вдоль этого фасада, отмечая парадоксальное варьирование ширины пилястр и интервалов между ними, — во всем царят полнейший хаос и абсурд!
ажется, зодчий был не вполне нормален или же от чего-то сильно страдал. И то правда, жизнь его сложилась не слишком удачно. Под конец царствования набожной Елизаветы на
него донесли, что он живет со своей прислугой, Шарлоттой Харбург, — ту бросили вместе с малолетним ребенком в тюрьму, а вскоре выслали из страны. В довершение всего
корабль, на котором покидали Россию несчастные, потерпел крушение…
Вследствие такого внимания к своей персоне Джузеппе решил уйти в отставку. Гетман Украины Кирилл Разумовский пожелал иметь его у себя в Глухове, по какому поводу связался с вице-канцлером Михаилом Воронцовым, который только что забрал у Разумовского прибывшего из Италии Ринальди, — вот тот единственный момент, где два соискателя на роль автора Новознаменки повстречались. Впрочем, мена не состоялась, Воронцов отписал гетману, что делать этого не стоит, так как зодчий Джузеппе никудышный…
Такое осталось у вельможи впечатление от работы Трезини в загородной усадьбе, не случайно ведь и свой городской дом на Садовой он заказал совсем другому мастеру — Франческо Растрелли. И. С.
|
|
|
|
|

Строгую красоту усадьбы Александрино удваивает отражение в пруду

И вправду похоже на дворовую галерею здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове

Вот какой представлял себе усадебную архитектуру Антонио Ринальди. Павильон Катальной горки в Ораниенбауме

Старейшую церковь Васильевского острова построил тоже он, Трезини

Такие артобстрелы хрупкие интерьеры пережить не могли
Личный опыт
Л. Пантелеев
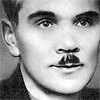 |
писатель — о Ново- знаменском исправдоме |
Одну из глав «Республики ШКИД» я писал в лазарете Новознаменского исправдома. Было это ранней осенью 1926 года. Идиллические времена! Исправдом располагался в
бывшем имении. Под одной кровлей, в удобных, похожих на больничные палаты, спальнях жили, отбывая разные сроки наказания, — латвийский шпион, цыгане-конокрады, растратчики, взяточники, профессиональный шулер Вяткин, комдив Сашко, осужденный за участие в дуэли, и тут же — карманные воры, фармазонщики, нэпманы-налогонеплателыцики… Две большие комнаты сплошь были заселены молодыми сектантами-баптистами, отбывавшими трехлетний срок за отказ от военной службы. Не помню, чтобы кто-нибудь их обижал, никто не смеялся над ними — ни комдив Сашко, ни шулера, ни карманники. С уважением относилось к этим ребятам и тюремное начальство. Не мог и я не заглядеться на них, не задуматься над тем, какая сила ведет их на подвиг. Правда в те годы подвиг этот не был невыносимо тяжел. Когда молодые евангелисты досиживали свои три года, к ним никто уже не предъявлял никаких претензий, от воинской повинности они освобождались, получали белые билеты. Но нетрудно представить, что стало
с этими людьми лет десять-пятнадцать спустя. Во время войны, когда Сталин заигрывал и с церковью, и с верующими, из тюрем и лагерей стали тысячами выпускать священников и активных церковников-мирян.
Выпускали всех, только не евангелистов, не тех, кто отказывался брать в руки оружие. Алексей Еремеев (1908–1987) в ШКИДе (Школа имени Достоевского) был прозван Ленькой Пантелеевым, по имени известного петроградского налетчика. У него самого — и до ШКИДы, и после — не раз возникали проблемы с законом. За что он попал в Новознаменский исправдом (Третью сельскохозяйственную исправительно-трудовую колонию) и сколько времени там провел, биографы умалчивают.
|