
(Наверху) Работники фабрики имени Луначарского.
Группа членов актива по снижению расценок. 1929 год.
(Внизу слева) В отличие от соседних краснокирпичных фабрик бывшие корпуса «Шредера» старательно скрывают свой возраст.
(Внизу справа) Шредеры были выходцами
из Саксонии. Название фабрики на инструментах писалось как на русском языке, так и на немецком
ервое музыкальное производство организовал на углу Большой Вульфовой улицы (Чапаева) и Фокина переулка (Пинский) рояльный фабрикант Карл Шредер, потомок музыкальных мастеров из Саксонии, уже в начале XIX века открывших свое дело в Петербурге. В 1870-е он перенес свои цеха на Петербургскую сторону, где обустроил серьезную фабрику с паровыми машинами и большим складом древесины. В начале ХХ века она выпускала в год тысячу превосходных инструментов. После национализации ее оборудование перевезли на Васильевский остров, на фабрику «Беккер», где решили выпускать рояли и пианино, а на Петроградской с 1926 года было налажено производство народных инструментов. Фабрика получила имя главы Наркомпроса Анатолия Луначарского. После акционирования, к началу 2000-х, все петербургские музыкальные фабрики — «Красный Октябрь» (пианино и рояли), «Красный партизан» (аккордеоны), фабрика Луначарского — попали под контроль фирмы «Империя». В итоге все производства были закрыты, а здания переделаны в бизнес-центры. Ни на одном из них нет упоминаний о предшественниках. Но инструменты, когда-то сделанные в этих стенах, еще живут — в концертных залах, в музыкальных школах, в квартирах петербуржцев. О наиболее выдающихся из них мы попросили рассказать музыкальных мастеров.
ортепианных фабрик в дореволюционном Петербурге насчитывалось немало, но чаще всего они лишь собирали инструменты, покупая комплектующие — струны, механику и другое — в разных местах. И лишь несколько крупных предприятий, такие как «Беккер», «Мюльбах» или «Шредер» (они носили фамилии владельцев), все делали сами. Работая долгие годы хранителем Коллекции музыкальных инструментов Театрального музея, я не раз проводил экспертизу роялей и пианино «Шредер». Инструменты были высоко ценимы владельцами за свою красоту, добротность изготовления, надежность механики, а главное — за превосходные звуковые качества. Жалею, что не записывал эпитеты, которыми хозяева награждали своих любимцев.
Самым первым «Шредером», с которым я познакомился в подробностях, был концертный рояль самого Александра Порфирьевича Бородина! Этот «палисандровый» красавец поступил в наш музей в 1920-е годы. Он был куплен на фабрике самим композитором в 1877 году (No 6701). Многое в его истории, в частности «постбородинский период», еще не ясно, возможно, после революции рояль был реквизирован, — словом, изучение продолжается.
В 2010 году я проводил экспертизу раннего кабинетного рояля «Шредер» под No 5046, стоявшего в квартире на Пушкинской улице. Любопытно, что в клейме у него значилось: «...ФОРТЕПIАННАЯ ФАБРИКА К. М. ШРЕДЕРА, существующая с 1816 г. ВЪ Ст. ПЕТЕРБУРГЕ, 54, Большая Мещанская на углу Вознесенскаго просп. въ собств. доме...». С петербургскими Шредерами неясно, кто из них был первым, кто кому кем приходился. Газета «СанктПетербургские ведомости» уже в 1809-м сообщает об активности «инструментнаго мастера Шредера», проживавшего по Малой Садовой улице. Спустя шесть лет газета дает более точную информацию: «Клавикордной мастер Карл Шредер объявляет...». В соперничество с этим Карлом Шредером в 1820 году вступил однофамилец: «Клавикордный мастер Андреас Христиан Шредер, недавно открывший свою мастерскую, жительствующий по большой Литейной улице, в доме Фольбаума, под No 501... ласкает себя надеждою, что знатоки одобрят его работу». Жаль, что формат настоящей публикации не позволяет развить эту интересную тему.
|
|
В 2002 году я работал с великолепным концертным «Шредером» под No 8451, конца 1880-х годов. Этот инструмент имел двойную репетицию — механику, позволявшую молоточку наискорейшим образом отскакивать от струны. В этом ведь и заключалась вся эволюция фортепиано: чем быстрее отскакивал молоток от струны, тем быстрее и быстрее можно было играть. В 1880-х годах такой репетиционный механизм был дорог. Фабрика ставила его в основном за счет средств состоятельных заказчиков на рояли предельно высокого качества (и цены).
Необыкновенно изящных пропорций корпус этого рояля был затонирован в белый цвет и с чувством меры украшен позолотой. Пюпитр представлял собой произведение искусства пропильной и рельефной резьбы. Монограмму «АМ» в середине я расшифровал как «Александр и Мария», то есть как имена императора Александра III (1845–1894) и его жены, императрицы Марии Федоровны (1847–1928). Поскольку монограмму императорской четы нельзя было использовать без специального разрешения, я сделал вывод, что рояль был заказан либо непосредственно императорской четой, либо дарителем из числа знати. Или поднесен самим Шредером. Поводом могло послужить какое-то событие, касавшееся семейной жизни Александра III и Марии Федоровны, — например, круглая дата со дня бракосочетания. Императорская чета могла по достоинству оценить подарок, поскольку любила музыку: Александр III и Мария Федоровна играли на фортепиано, порой музицировали вместе. Этот рояль был отреставрирован в 1999 году мастером Е. М. Ершовым и в настоящее время принадлежит жителю Петербурга, однако инструмент такого качества, с полным, красивым, насыщенным красками звуком, способен обогатить собрание любого музея мира.
Еще недавно «Шредеров» (как и дореволюционных «Беккеров») было немало в петербургских музыкальных школах, училищах, домах культуры. Но... инструменты стареют, разбиваются учениками, реставрация стоит немалых денег, и их списывают. Один из «Шредеров», с которым я тоже имел дело, можно услышать в Мариинском театре. Это поздний кабинетный рояль под No 128 732, изготовленный в 1911 году. Он также обладает механикой с двойной репетицией. В 2012 году его отреставрировали в мастерской В. Я. Головченко, сохранив все аутентичные детали, в результате рояль не потерял богатого, благородного тембра, свойственного инструментам начала ХХ века — времени расцвета мирового фортепианостроения. Рояль был задействован в концерте, которым открывалась вторая сцена Мариинского театра, его используют при исполнении балета «Свадебка», где требуются сразу четыре фортепиано.
Смело могу утверждать, что «Шредеры» по-прежнему ценимы музыкантами и отвечают их современным требованиям. Далеко не каждая из бесчисленных фортепианных фабрик, фирм и мастерских, существовавших в прошлом где бы то ни было, может гордиться подобной репутацией.

Cейчас корпуса фабрики занимает бизнес-центр «Сенатор»
|
|
|
|
|
 |
Инсайд
Владимир Зуев
Мастер экспериментального цеха фабрики имени Луначарского
|
аша фабрика Луначарского была крупнейшей фабрикой музыкальных инструментов не только в Советском Союзе — в Европе! Лишь экспериментальный цех, где инструменты делались не на конвейере, а одним мастером от и до, ежемесячно выпускал около трехсот образцов: гитары, всю линейку домр, от пикколо до баса, и балалаек, от примы до контрабаса. А еще арфы, гусли, электрогитары, двенадцатиструнные гитары. Если вспомнить, что в Советском Союзе в каждом городе и поселке были музыкальные школы, а в них обязательно отдел народных инструментов, понятно, что спрос на них был огромен. На первом этаже фабрики размещались заготовительные цеха, где из отборной резонансной ели, а также из бука и клена, созревавших до этого на специальных складах не менее пятнадцати лет, резали верхние деки для инструментов массового изготовления. Конвейеры были на втором этаже, на третьем располагался наш экспериментальный цех, на четвертом делали клавиатуры для роялей и пианино, они поставлялись не только на «Красный Октябрь», но и на другие фабрики СССР. В акустической лаборатории исследовали изменение звучания инструментов в зависимости от новаций в форме и комплектующих деталей. Из гитар одной из лучших моделей была та, образцом для которой послужила гитара легендарного музыканта и большого пропагандиста этого инструмента Андреса Сеговии. В 1927 году во время визита в Ленинград он подарил фабрике свой инструмент. И его стали буквально копировать и копируют до сих пор. В 1980-е эта испанская красавица — широкая, «с талией» — стоила девять с половиной рублей. По звучанию она была исключительно удачна. На ней играла не только молодежь в подворотнях и в походах, но и профессионалы на концертах. Мастера цеха индивидуальных заказов (экспериментальный) сдавали свои инструменты не только ОТК, но и специальной комиссии из серьезных музыкантов — преподавателей Консерватории, Института культуры, концертирующих артистов. Те играли на каждом инструменте и определяли: этот средний, этот хороший, этот отличный. Так решалась их судьба: одни направлялись в музыкальные школы, другие — в училища и консерватории. Мастеру, чтобы набрать за месяц зарплату сто двадцать— сто пятьдесят рублей, надо было изготовить от двенадцати до восемнадцати инструментов.
На фабрике был свой народный оркестр из сотрудников, а иначе как поймешь душу инструмента? Например, мой отец, Осип Осипович Зуев, проработавший у нас инженером двадцать лет, играл на мандолине, балалайке, гитаре. Когда Союз распался, спрос на народные инструменты резко упал. После ликвидации фабрики многие мастера продолжают работать: кто дома, кто в небольших ателье. Наши инструменты до сих пор получают призы на конкурсах. За это мы благодарны учителям, сделавшим из нас мастеров: Геннадию Григорьеву, Рафаилу Зайцеву, Вениамину Михайлову, Андрею Хомячкову и другим.

В экспериментальном цехе. 1960-е годы. Фото из коллекции Владимира Зуева

Каждый инструмент в цехе индивидуальных заказов делался одним мастером
от «бревна»
до акустической настройки
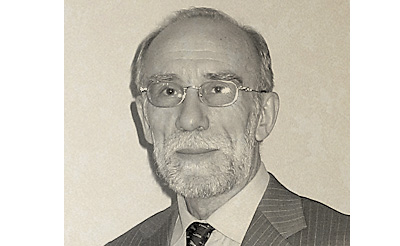
Владимир Кошелев, хранитель коллекции музыкальных инструментов Санкт- Петербургского государственного музея театрального
и музыкального искусства
|