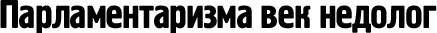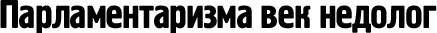|
 |
| Слева от трона стояли, переливаясь бриллиантами, члены Императорской фамилии и министры в расшитых золотом мундирах. Напротив толпились «лучшие люди отечества» во фраках, сюртуках, поддевках и восточных халатах. Современникам казалось, что они присутствуют у разверстой могилы самодержавия |
Если бы в начале ХХ века существовало телевидение, львиная доля вечерних новостей приходилась бы на репортажи из Таврического дворца - в 1906-1917 годах здесь заседала Государственная дума России.
Бурные события 1904-1905 годов - поражение в войне с Японией, гибель эскадры, всеобщая стачка и пожары помещичьих усадьб - вынудили правительство начать реформы и созвать "законно-совещательный орган народного представительства". Воодушевление, с которым после Манифеста 17 октября 1905 избирали по всей стране 500 депутатов первой Думы, можно сравнить с большими надеждами, возлагавшимися на Первый съезд народных депутатов 1987 года. Впрочем, в начале ХХ века выборы были не всеобщими, не прямыми и не тайными: действовал земельный и имущественный ценз, женщины, военнослужащие, молодежь до 25 лет политических прав не имели вовсе. Однако в 1906 году монархические партии потерпели сокрушительное поражение, а большинство в Думе получила оппозиция.
Лучше всех к выборам были готовы кадеты (к.д. - конституционные демократы), они и заняли большую часть кресел в Таврическом дворце. С первого же дня представители либерально настроенной интеллигенции требовали радикальных реформ, и немедленно: создания правительства, ответственного перед парламентом, введения всеобщего, равного и тайного избирательного права, решения земельного вопроса. Неудивительно, что первая Дума не могла найти общего языка с "исторической властью" и была распущена уже через 72 дня.
Но начиналось все очень многообещающе. 27 апреля 1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца император обратился к "лучшим людям" с прочувствованной речью. После приема депутаты отплыли на пароходах к Таврическому дворцу, прохожие на набережных, арестанты "Крестов" махали белыми платками и скандировали "Амнистия". Рьяно взявшись за дело, Дума попыталась сформировать свой кабинет. Председателем Совета министров кадеты предлагали назначить Павла Милюкова, министром юстиции - Владимира Набокова (отца писателя, а для современников - сына бывшего министра юстиции). Заседали с утра до полуночи, двести аккредитованных журналистов строчили отчеты по еще не правленным стенограммам. Обсуждая самый наболевший закон аграрной страны - закон о земле, Дума предложила наделить крестьян участками из казенных, монастырских и даже принудительно отчужденных у частных владельцев земель. Совет министров во главе с Горемыкиным докладывал царю, что "без принятия самых энергичных мер к подавлению революционных вспышек обойтись невозможно". Английская модель - "царствовать, но не править" - Николая не устраивала, и грозный Манифест не заставил себя ждать: "Да будет же ведомо, что мы не допустим никакого своеволия и всею силою государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей царской воле". Дума не подчинилась и, выгнанная из Таврического дворца, отправилась заседать в Выборг. Под предводительством первого председателя Сергея Муромцева она призвала граждан к пассивному сопротивлению: "До созыва народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию". Все 167 депутатов, "ум, честь и совесть эпохи", подписавшие Выборгское воззвание, были впоследствии осуждены и лишены избирательных прав.
Вторую Думу созвали 20 февраля 1907 года, и она оказалась еще более радикальной, она лидировала по количеству рабочих и крестьян. Одобрить в такой "мужицкой" Думе свою земельную реформу Столыпин не смог и он решил судьбу парламента с помощью своего ведомства - Министерства внутренних дел. За революционную агитацию в армии 55 депутатам от РСДРП были предъявлены обвинения. Пока специальная думская комиссия размышляла, как быть, Думу опять распустили. Однако напоследок депутаты приняли закон, чрезвычайно выгодный власти, - он лишил прав представителей окраин и установил фильтр, гарантировавший прохождение нужных людей. С третьей Думой, где большинство получила национал-монархическая партия, власти договориться было уже проще, и она продержалась положенные пять лет (1907-1912). Однако если первые две Думы были, как и горбачевские съезды, всероссийской трибуной гласности, то в третьей и четвертой школу гласности проходила исполнительная власть. Прежде абсолютно "непрозрачные" министры вынуждены были отчитываться в Таврическом дворце, защищать свои законопроекты, оттачивая ораторское мастерство, отвечать на думские запросы.
|
|
Законы становились известны обществу еще на стадии обсуждения, а потому всякие общественные и научные организации могли поучаствовать в прениях.
Как себя вели депутаты
Стычки и перепалки на заседаниях и тогда не были редкостью. Хотя "оратор, допускавший резкие и несовместимые с достоинством Думы выражения" лишался слова или удалялся на срок от одного до пятнадцати заседаний, в стенограммах полно уничижительных реплик с места. Микрофонов тогда не было, но великолепная акустика Полуциркульного зала - перестроенного зимнего сада - позволяла элементарно "захлопывать" неугодных ораторов. Славу первого хулигана, и.о. Жириновского, стяжал ярый монархист, участник убийства Распутина статский советник Владимир Пуришкевич (1870-1920), он избирался аж три раза. Пуришкевич участвовал в любом обмене оскорблениями и был излюбленным героем скандальных хроник. Например, 1 мая, когда левые фракции вдели в петлицу красную гвоздику, он появился с гвоздикой на срамном месте - в прорехе брюк. Бросал с кафедры стаканы на головы коллег. Необузданный в словах, он не подчинялся председателю и требовал, чтобы его удаляли из зала силой. Когда являлась охрана, Пуришкевич, скрестив руки, садился на плечи стражей порядка, и кортеж театрально покидал заседание (дети в то время часто играли "в Пуришкевича"). Скорость его речи была более 90 слов в минуту, стенографисты скрежетали зубами, газеты, которые публиковали полный текст его тирад, порой конфисковывались цензурой. Конфликты в Думе иногда доходили до дуэлей. Так, лидер октябристов Александр Гучков стрелялся с коллегой по фракции графом Алексеем Уваровым (секундантами были другие депутаты). Только ранив бывшего товарища, Гучков заставил его "покинуть ряды".
Как голосовали
Подача голосов за отсутствующих депутатов была запрещена. Открытое голосование производилось "посредством сидения или вставания". В спорных случаях депутаты, голосовавшие утвердительно, выходили в одну дверь зала, а отрицательно - в другую. Баллотировались на ту или иную должность тайно. Депутаты указывали фамилии своих кандидатов в записках; после того как председатель определял трех лидеров, объявлялось тайное голосование белыми и черными шарами.
Что обсуждали
При учреждении Думы к ее ведению были отнесены "все предметы, требующие издания законов". На деле вопросы внутренней и внешней политики были изъяты сразу, а права в вопросах бюджета - ограничены специальными "дополнительно изданными" правилами. Дума рассматривала бюджет - государственную роспись доходов и расходов, отчеты об ее исполнении, сметы министерств. Но все принимаемые Думой законопроекты поступали на утверждение императора, за которым оставалось решающее слово. В тяжелые военные годы он остался глух к настойчивым просьбам Думы о создании объединенного правительства. Все министры назначались и увольнялись царем (читай: царицей и "их другом") и были ответственны только перед ним. Дума могла лишь с негодованием следить за чехардой распутинских перестановок. В 1916 году свеженазначенный министр внутренних дел Протопопов, подавая руку председателю Думы Михаилу Родзянко, в ответ услышал: "Нигде и никогда". Хотя правительство и Дума никогда не дружили, в 1917 году их разногласия достигли апогея. В феврале министры были арестованы, власть перешла к Временному правительству во главе с депутатом Керенским. На первом же заседании оказалось, что новый кабинет претендует на всю полноту власти, а Дума уже и не нужна - "все свободны, всем спасибо".
Недолгий век "призрачного" русского парламента до сих пор вызывает противоречивые оценки. Одна из наиболее категоричных принадлежит Василию Розанову: "В Государственной думе четырех созывов не было на самом деле ничего государственного, у нее не было заботы о государевом деле, и она только, как кокотка, придумывала себе прозвища вроде "Думы народного гнева". Ни разу там не проявилось ни единства, ни творчества, ни одушевления". Свидетелям деятельности новейших дум понятна горечь подобных наблюдений. Развитие гражданского общества в России тогда и сейчас - процесс мучительный, достаточно включить телевизор, чтобы в этом убедиться. Анна Петрова
 |
| Член Государственной думы диктует текст своего выступления машинистке. Фото К. Буллы. |
|