|
 |
| «Живем вдвоем на верху круглой башни над Таврическим парком с его лебединым
озером. За Невой – фантастический очерк всего Петербурга до крайних боров на горизонте. В сумеречный час ухают пушки, возвещая поднятие воды в Неве, и ветер с моря, крутя вихрем желтые листья парка, стонет и стучится в мою башню». Вячеслав Иванов |
Самый известный дом в квартале на углу Таврической и Тверской зовется "Башней". Эту башню склоняют на международных симпозиумах и городских экскурсиях, в научных трудах и учебниках литературы. Что неудивительно - в 1905-1912 годы через собрания на квартире поэта Вячеслава Иванова, жившего на шестом этаже как раз под угловой башенкой, прошла вся русская поэзия модернистского, или, как говорили тогда, декадентского толка. Если упоминать самых известных, то список с самого начала подозрительно напоминает словарь: Ахматова, Бальмонт, Андрей Белый, Блок, Брюсов, Волошин, Гиппиус, Городецкий, Гумилев и т. д. Гости съезжались по средам не раньше одиннадцати часов вечера и расходились, "когда толстое солнце палило над крышами".
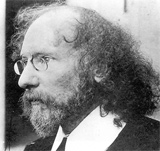 |
| Вячеслав Иванов. 1900-е гг. |
Посещать эти собрания считалось почетным и свидетельствовало об аристократизме духа. Теоретик символизма, знаток античной философии, поэзии и литературы Вячеслав Иванов, вернувшийся в Россию после многолетнего пребывания в Европе, нуждался в публике, учениках, театрализованном общении. В рассказах о всенощных бдениях на Башне современники часто поминали слово "оргия". Иванов ничего против не имел, только подчеркивал, что изначальный смысл слова извращен. Оргии на Башне - это мистические службы Дионису, где вся община (собрание поэтов) активно священнодействует - раскрепощается, пьет вино, танцует, читает стихи, свободно обсуждает их, - в общем, экстатическое состояние полезно для творчества. От любопытных отбоя не было, современникам казалось, что Башня на Таврической, словно Эйфелева, испускает лучи. Давая кров все новым постояльцам, трехкомнатная квартира Иванова постоянно расширялась, поглощая соседние помещения, пока не заняла весь этаж. "Люди могли проводить в ее дальних комнатах недели, - вспоминал Владимир Пяст, - лежать на мягких диванах, писать, играть на музыкальных инструментах, рисовать, пить вино, никому не мешать и не видеть никого как из посторонних, так и из обитателей самой башни".
Помимо многолюдных собраний по средам для близких друзей было организовано "Общество Гафиза", где все участники игры имели прозвища из древней восточной и греческой культуры. Из бесчисленных воспоминаний "как это было" интересно сравнить два отрывка: стороннего наблюдателя - московского прозаика Бориса Зайцева и многолетнего участника - поэта Михаила Кузмина. Кузмин описывал события на следующий день в дневнике, Зайцев вспоминает "эпоху Башни" в эмиграции полвека спустя.
Борис Зайцев
"Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма - немало до революции был "измов" в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но провинциальных Мачтетов и Баранцевичей, выходивших многотомными собраниями в начале века, она погребла бесповоротно. Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве "социалистического реализма", не знаю. Я ни от кого таких опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю. Часто ездил с женой в Петербург. Там останавливались у Григория Чулкова. Вячеслав Иванов был его соратником по "мистическому анархизму". Были у Иванова и "соборность", и разные другие выспренности. Писал стихи - громозвучные, тяжеловесные, и в одеждах, изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре - славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, что стихи особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин. (…) Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на "особенное" считалось, что он живет в "башне", а сам он мэтр. Слова "мэтр" я всегда не выносил, но Вячеслав Иванов к облику наставника действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов, и религии тех лет, и поэзию, и философию, да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском "глаголаше премудро". И главное, вкусом обладал благородным. (…) Было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он любил говорить сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника я не встречал никогда. Словоохотливых, а то и болтунов - сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда свое, и новое, и острое. (…) Жизнь вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой башне (тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться.
|
|
На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст и еще море юнцов, художники "Мира искусства". Читались стихи, разбирались - все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался. Но раз, в 1908 году я был приглашен не на собрание, а на аудиенцию глаз на глаз. Только вышла моя повесть "Аграфена", вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из-за нее он и позвал меня. Увел в кабинет - и вот начался разбор этой "Аграфены", чуть ли не строчка за строчкой - спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это полтора часа. Тут и почувствовалось, насколько этот человек предан литературе, какая бездна у него понимания и вкуса. (…) Трудно вспомнить, что он тогда говорил, но вот впечатление благожелательного наставничества, необидного, сочувственного и недифирамбического, видящего и свет, и тени, так и осталось в душе. Какая там "башня", какой "мэтр", просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов".
Вечера на Башне продолжались с переменным успехом до отъезда Иванова в 1912 году. Не так давно на фасаде дома в честь символистов появилась мемориальная доска, но подняться на Башню и выйти через нее на крышу, как, например, сделал Парфенов в одной из серий "Российской империи", вряд ли получится - квартира Иванова выкуплена, расселена и активно ремонтируется. Так что большинство любителей словесности, запрокинув голову, изучают историческую Башню с улицы, представляя на крыше Блока, впервые читающего "Незнакомку", и толпу поэтов в пестрых хитонах.
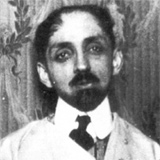 |
Михаил Кузмин
Дневник (январь-май 1906 года): "Поднявшись по лифту на последний этаж, мы нашли дверь незапертою и прямо против входной дверей длинный стол с людьми, вроде трапезы. В комнате со скошенным потолком, в темно-серых полосатых обоях, горели свечи в канделябрах, и было уже человек сорок. Хозяйка, Гера (жена Иванова - Лидия Зиновьева-Аннибал) в красном хитоне встречала гостей приветствием. Из знакомых мне были Сомов, Сенилов, Каратыгин и Нувель, а так - Брюсов, Сологуб, Блок, Ремизов, Рославлев, Тэффи, Бердяев, Успенский, Мейерхольд, Добужинский. Было красное вино в огромных бутылях, и все пили и ели как хотели. Габрилович читал длиннейший и скучнейший реферат о "религии и мистике", профессора возражали, а поэты и дамы куда-то исчезли. Я скучал, пока меня не вызвал Сомов в другую, "бунтующую" комнату, где за отсутствием стульев все сидели на полу, читали стихи. Просили и меня, но мне казалось, что я ничего не помню, и я отказался".
***
"Иванов был уже одет. Сомов одевал других, он врожденный костюмер. Декоративней всех был Бердяев в виде Соломона. Я не ожидал такого чувства начинания, которое пронеслось в молчании, когда Иванов сказал: "Incipit Hafiz" (Начинается Гафиз. - Ред.). И платья, и цветы, и сиденье на полу, и полукруглое окно в глубине, и свечи снизу - все располагало к какой-то свободе слова, жестов, чувств. Как платье, непривычное имя, "ты" меняют отношения. Городецкого не было, и вначале вино разливал Сомов. И беседа, и все казалось особенным".
***
"Вначале стесняла тайно Бердяева, потом начала стеснять слишком явно, поднятый вопрос об ее исключении был принят единодушно. (В собраниях "Гафиза" участвовали только мужчины, за исключением хозяйки дома. - Ред.). Вячеслав Иванович читал свое стихотворение, Городецкий импровизировал. Все целовались, я не целовался только с Сомовым и Бердяевым. Играли на флейтах, пили, было шумно и несколько бестолково, пахло розовым маслом, платья были пестры. Я был увлечен, но никем не ранен, оттого может и показался Гипериону мудрым. Утро опять было серое".
***
"Перешли на французский, потом на итальянский, потом на английский. Чеботаревскую носили на руках и клали на колени. Под флейты я с Нувелем плясали, все целовались. Мне вдруг стало скучно, что я в никого не влюблен, что я какой-то лишний соглядатай".
***
"Сегодня были отличны в своих костюмах Бакст и Нувель, эффектен Соломон, жесток Аладин, каждый раз костюмы - новый пир для глаз. Сначала прочитали стихи, потом принялись за мудрость, но дело подвигалось сонно. Уже не помню, как все стали приходить в гафизитское настроение, но я с Корсаром плясали, Асаргадон лежал распростертым, покрыв глаза голубым газом. Диотима, против обыкновения, путешествовала по всем тюфякам. Городецкий из своего хитона устраивал палатку и смотрел сверху как благосклонное божество на обнявшихся внизу. Под палатку почему-то все попадали Диотима, Апеллес, Аладин и я".
***
"Были все гафисты, Бердяева, Ремизовы, Маделунг с какой-то датчанкой, говорящей только по-английски. Датчанка играла на скрипке. (…) Потом поставили вопрос о поле. Долго беседовали о поцелуе, было много словесности и мережковщины. Бердяев председательствовал лежа на полу между свечей, со звонком, привязанным к ноге. Ремизов ехидно и коварно шутовался, все говорили враз и отдельными группами с жаром и интересом. Датчанка смотрела, будто готовая сойти с ума..."
Как кого звали на Башне:
Вячеслав Иванов - Эль-Руми, Гиперион, его жена - Лидия Зиновьева-Аннибал, как собеседница Платона - Диотима, Бердяев - Соломон,
Кузмин - Антиной,
Сомов - Аладин,
Бакст - Апеллес,
Нувель - Петроний, Корсар,
Городецкий - Зэйн, Гермес,
Петербург звался Петробагдадом,
квартира Иванова - палаткой Гафиза.
 |
Хозяйка Башни Лидия Зиновьева-Аннибал
обычно встречала гостей полулежа |
|



