|
 |
| Сейчас на месте бадмаевского дома на Ярославском – детская площадка и хрущевские пятиэтажки |
Из своего дома Петр Александрович Бадмаев (1849-1920) был изгнан еще после Февральской революции, ему не простили монархические взгляды, генеральский чин и близость ко двору. "Мыза", как ее называл Бадмаев, специально построивший собственный дом за городом, на высоком сухом месте - с аптекой, санаторием для больных и большим участком, перешла в ведение военных властей. Семье удалось перевезти запасы лекарственных трав в дом на Ярославском проспекте, где измученный арестами Бадмаев и умер в 1920 году. Его внук - писатель Борис Гусев, которого в детстве мальчишки звали Батмаем, согласился показать редактору "Квартального надзирателя", где находилось фамильное гнездо, и рассказать о своем детстве, что прошло на Удельной.
Дом
"Наш бревенчатый пятикомнатный особняк на Ярославском проспекте, 85, с садом и прудом, окруженным ивами, был единственным домом в округе, где в 1920-1930-е продолжали жить с размахом прошлого века. Революция затронула и нашу семью: деда несколько раз арестовывали, брали в заложники, и от расстрела его спасло лишь то, что за него ходатайствовали его пациенты-большевики. Его белокаменную дачу на Поклонной горе конфисковали, а этот особняк, записанный на Бабушку, упустили. Хотя чекисты бывали и здесь, но ограничились лишь арестом деда и тем, что прокололи штыками старинные картины в золоченых рамах - искали оружие. В доме Бабушки все шло раз заведенным порядком, и в 1930-е годы у нас была кухарка, горничная Маруся, приходящие гувернантки; раз в неделю часовщик швед заводил напольные часы Буре. Но главной была домоправительница - восьмидесятилетняя умная и набожная русская женщина Акулина Яковлевна Бундина, Кулюша, помнившая еще крепостное право. Она и поддерживала порядок, распоряжалась прислугой и была бесконечно предана нашей семье. Поскольку некоторые представители власти сами лечились у Бабушки (многолетняя ассистентка Бадмаева, она продолжала прием в его кабинете на Литейном, 16. - Ред.), ей до поры до времени позволено было сохранять привычный для нее уклад жизни. Но Бабушка соблюдала правила игры. Когда в ее доме собирались гости, остатки старой петербургской интеллигенции, и кто-то начинал обсуждать действия большевиков (их именовали - они), Бабушка вставала из-за стола и по праву хозяйки говорила: "Госпа-а, я прошу в моем доме не говорить о политике", - и разговор смолкал. (…)
Школа
Желая, чтобы я в совершенстве знал язык, мама и Бабушка отдали меня в школу немецких колонистов. Их дома, окруженные небольшими садами, начинались тотчас за бывшей усадьбой деда на Поклонной. Все предметы преподавались на немецком. Русский там проходили, как в наших школах немецкий. Но в середине 1930-х колонистов выселили, а школу закрыли, арестовав при этом всех учителей во главе с директором Лидией Андреевной Вильмс. После немецкой школы меня перевели в обычную советскую школу, сразу в четвертый класс. Я сидел на уроках, ничего не усваивая. Переводил сперва на немецкий, чтоб лучше понять, потом на русский. И в четвертом остался на второй год. Лишь к седьмому как-то выровнялся на тройки. Однажды мама серьезно сказала мне: - Боречка, возможно, тебя станут спрашивать, не внук ли ты доктора Бадмаева, отвечай: внук. Стыдного в этом ничего нет. Но если начнут расспрашивать дальше, скажи, что ничего не знаешь. Ты и правда не знаешь. По моему удрученному молчанию мама поняла, что расспросы уже были.
- И о чем спрашивали?
- Говорили, что дедушка лечил царя... - отвечал я.
Присутствующая при разговоре Бабушка произнесла длинную фразу по-французски. Мама кивнула и отвечала по-русски: - Да, да... Надо сказать все, чтобы не было недомолвок, - и, обернувшись ко мне, продолжала: - Видишь ли, отец мой был известный врач, ты знаешь это. И именно как известного врача его приглашали на консультации во дворец... Лечил ли он самого царя, мы этого не знаем, и он об этом не говорил. Известно, что лейб-медиком был доктор Боткин.
В Шувалово
Я гуляю по двору и вижу, как Бабушка выходит с парадного крыльца. Я знаю, куда она собралась: "Бабушка, я с тобой!.." Она оборачивается к провожавшей ее Марусе: "Скажите Акулине Яковлевне, что мальчик со мной" - берет меня за руку, и мы идем к трамваю. Я рвусь вперед, чтоб уйти скорее, иначе кто-то из знакомых перехватит Бабушку, долго будет рассказывать о своей болезни и просить совета и лекарств. Мы благополучно доходим до остановки, подходит трамвай, но едва входим в вагон, кто-то вскакивает с места: "Елизавета Федоровна! Дорогая... Садитесь!..". Трамвай медленно ползет на Поклонную гору. И вот уже справа виднеется двухэтажная белокаменная дача с восточной лесенкой-башенкой на крыше. Я знаю, что здесь жил мой дед и что об этом не следует говорить в трамвае. "Бадмаевская дача, следующая остановка - Озерки!" - объявила кондукторша.
Мы вышли на кольце, в Шувалове. То была обычная воскресная поездка Бабушки на Шуваловское кладбище, на могилу деда. Бабушка покупает белые розы, и мы поднимаемся вверх по каменным ступеням на кладбищенский холм. Здесь высится белая церковь с двумя куполами. С восточной стороны храма, где начинаются ряды могил, - наша, в железной ограде. Кладбищенский сторож Пантелей посыпает ее желтым, принесенным с озера песком. На могиле высокий белый железный крест и надпись: "Петр Александрович Бадмаев" - и дата смерти: 29 июля 1920 года. Даты рождения нет. И хотя я позже спрашивал, когда точно дед родился, определенного ответа не получил. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона год рождения указан - 1849. По семейным преданиям, он был старше. Мама смеялась: "Когда я родилась, моему отцу было сто лет" - и это воспринималось как шутка. Но в 1991 году я получил в КГБ разрешение ознакомиться с делами моих репрессированных родных. Дело деда начинается с короткой справки ЧК: "Бадмаев Петр Александрович, уроженец Арык Хундун, Монголия, родился в 1810 г. Жительство Поклонная гора, Старопарголовский, 177/79". (…)
|
|
Тибетские травы
Прием пациентов при Бабушке уже не имел таких массовых масштабов, как при деде, но тридцать-сорок больных ежедневно с двух часов ожидали ее в приемной. Первую же половину дня она посвящала ответам на письма, которые шли к ней со всех концов страны, а также наблюдала за приготовлением тибетских лекарств. Технология их приготовления была сложной, требовала большой аккуратности в дозировке. Летом и осенью к нам приезжали буряты и привозили сырье - лекарственные травы. Одеты они были в черные костюмы, без галстуков. Во дворе разжигался большой костер, на него ставился герметически закрытый чан с печенью лося или медвежьей желчью. Сжигание продолжалось в течение суток. Все как при деде.
Петр Бадмаев
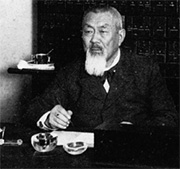 На столовом серебре в доме Бадмаевых было выгравирована монограмма ВНТ - Врачебная Наука Тибета. Ее изучению и пропаганде потомок Чингисхана посвятил всю жизнь. Он привез из Тибета священные трактаты "Жуд-Ши", перевел их на русский и подготовил к изданию. После смерти его старшего брата - эмчи-ламы Сультима Бадмаева, обосновавшегося в Петербурге в 1860 году, столичная аптека и клиентура перешли к Жамсарану. Хотя "традиционная медицина" с насмешкой относилась к его "гомеопатии", лечиться к Бадмаеву ехали со всей России и из-за рубежа. При крещении Жамсаран принял имя Петра в честь императора Петра Первого, а его крестником стал Александр III. Близость к царскому дому, знакомство с Распутиным, а главное - влияние, которое Бадмаев стремился оказывать на восточную политику империи, дорого ему стоили. Как "царский приспешник" он был изгнан из России уже Временным правительством, а по возвращении неоднократно арестовывался большевиками. Труд его жизни - "Врачебная наука Тибета" - был издан лишь в 1991 году
На столовом серебре в доме Бадмаевых было выгравирована монограмма ВНТ - Врачебная Наука Тибета. Ее изучению и пропаганде потомок Чингисхана посвятил всю жизнь. Он привез из Тибета священные трактаты "Жуд-Ши", перевел их на русский и подготовил к изданию. После смерти его старшего брата - эмчи-ламы Сультима Бадмаева, обосновавшегося в Петербурге в 1860 году, столичная аптека и клиентура перешли к Жамсарану. Хотя "традиционная медицина" с насмешкой относилась к его "гомеопатии", лечиться к Бадмаеву ехали со всей России и из-за рубежа. При крещении Жамсаран принял имя Петра в честь императора Петра Первого, а его крестником стал Александр III. Близость к царскому дому, знакомство с Распутиным, а главное - влияние, которое Бадмаев стремился оказывать на восточную политику империи, дорого ему стоили. Как "царский приспешник" он был изгнан из России уже Временным правительством, а по возвращении неоднократно арестовывался большевиками. Труд его жизни - "Врачебная наука Тибета" - был издан лишь в 1991 году
|
Когда то или иное лекарство в виде порошка было готово, на стол ставилась банка с этим порошком, и вся семья садилась за стол фасовать. На листок рисовой бумаги специальной аптекарской ложкой высыпается доза порошка, которая завертывается особым образом. У меня до сих пор не получается как надо. Наиболее популярным среди больных да и у нас дома было лекарство под номером 179. Оно называлось шижет. Это был порошок, состоявший из шести ингредиентов и улучшавший обмен веществ. Шижет излечивал и диатез, и экзему, и желудочные заболевания. Бабушка, например, принимала шижет каждый день по утрам. До 1937 года, то есть до ее ареста, никто не давал Бабушке ее шестидесяти пяти. Если кто-то в семье что-то не то съест и почувствует себя плохо, первый совет: "Дайте шижет" - и недомогание тотчас проходит. Весь большой чердак нашего дома был набит лекарственными травами, привезенными из Агинской степи Забайкалья. Эту степь называют малым Тибетом - она расположена на высоте семьсот метров над уровнем моря. Там на берегах Онона - по легенде, родины Чингисхана - и растут эти целебные травы.
Соседи
Отворяются ворота, и во двор въезжает телега с вещами. Это семейство Курочкиных - муж, жена, двое детей и старуха: им выдан ордер на бывшую дворницкую, которая пустовала. Бабушка держит меня за руку, и я с любопытством рассматриваю двух мальчиков моего роста.
- Здравствуйте, здравствуйте!.. - говорит женщина, слегка смущаясь. - Вот мы и доехали... Этомой старшенький - Миша, а младшего Толя зовут... Мужчина, не здороваясь, идет прямо к дворницкой, там вместе с возницей сгружает скромные пожитки - матрасы, одеяла из разноцветных лоскутков, деревянный чемодан, мешок...
- Откуда вы? - спрашивает Бабушка.
- Псковские мы, деревня Лапушино, - отвечает женщина.
- Располагайтесь... Помещение приличное - две комнатки, кухня...
- Спасибо. Мой-то уже был, смотрел, а теперь вот мы всей семьей...
На лице женщины смущение оттого, что они въезжают в чужой двор. На лице ее мужа смущения нет. К вечеру он уже ходит босой по двору, как хозяин, и говорит, кивая в сторону нашего дома: "А ихнего тут ничего нет, окромя мебеля. Все - казенное". Егор Петрович Курочкин - высокий красивый мужик со слегка сдвинутой челюстью. Его послали в город как активиста коллективизации. Весь остаток лета он гулял босой во дворе, а жена Маня пошла работать на фабрику с первого дня. Так и продолжалось до начала войны: он или гулял по двору, или отсиживал срок за воровство, а Маня тянула семью. (…)
В округе вырос целый поселок из стандартных щитовых домов. Его заселяли жители Ленинградской области, призванные "пополнить рабочий класс". Вчерашние крестьяне, оторванные от земли, от профессии хлебороба, не имея иной квалификации, шли работать кондукторами трамваев, автобусов или разнорабочими: при "курочкиной" производительности труда людей всегда не хватало. Некогда пустые удельнинские переулки заполнились новой публикой. Это были хорошие крестьянские лица. Здоровые, веселые девушки, по-особому, набекрень, носившие береты и старавшиеся поскорей стать ленинградскими барышнями. Но когда люди стремятся быть на кого-то похожими, они становятся похожими друг на друга".
В 1935 году Бадмаевы переехали с Ярославского проспекта на Рашетову улицу. В 1937-м Елизавету Федоровну арестовали и выслали в каракалпакский ГУЛАГ. После трех лет заключения она поселилась в вольной ссылке в Вышнем Волочке. В Ленинград, на Удельную вернулась в 1944 году. Ее дочь Аида Гусева в блокаду возглавляла хирургическое отделение госпиталя, разместившегося в Политехническом институте. После войны работала в поликлинике. Сохранила архив отца и свела его рецептуру в единую систему. В 1991-м (к сожалению, уже после ее смерти) на их основе был изданы "Основы врачебной науки Тибета Жуд-Ши". Отец Бориса - кинорежиссер Сергей Гусев-Глаголин, арестованный в начале войны, погиб в 1942-м. Борис Гусев в пятнадцать лет ушел на Ленинградский фронт. После войны работал редактором в газете "Смена", в московских "Известиях". Автор повестей и романов, несколько из которых посвящены его семье.
Отрывки из книги "Петр Бадмаев, крестник императора, целитель, дипломат" опубликованы с любезного разрешения автора.
|



