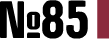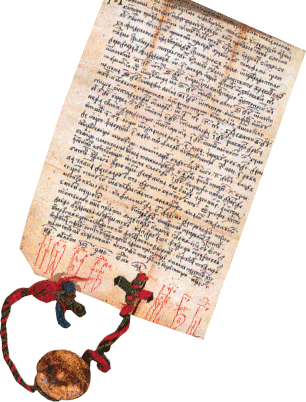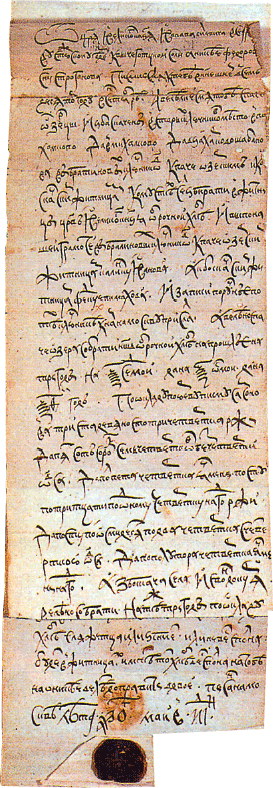озяином необычного дома, построенного специально для хранения богатейшей коллекции, был историк Николай Петрович Лихачев (1862–1936). Вообще-то, его ждала судьба провинциального профессора: в 1884 году он закончил Казанский университет и через четыре года стал там приват-доцентом на кафедре русской истории. Но сам Николай Петрович признавался в одном из писем: «Меня манят архивы, пока я молод, мне хочется исследовать».
Два Лихачева
Будущему академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву не раз приходилось объяснять, что он не родственник «того» Лихачева. В 1930-е он «разочаровывал» этим партработников, пытавшихся инкриминировать ему родство, в 1940-е предупреждал студентов филфака, наслышанных о знаменитой палеографической коллекции Николая Лихачева.
|
Спустя несколько лет, в возрасте 31 года, Лихачев получил должность лектора петербургского Археологического института и женился. Женитьба на дочери историка Геннадия Карпова, который был любимым учеником Сергея Соловьева, и внучке текстильного фабриканта–миллионера Тимофея Морозова оказалась
главным подарком судьбы. Немного было в России невест, обладавших таким состоянием и одновременно глубокими знаниями и уважением к культуре. Приданое Натальи Геннадиевны позволило Лихачеву в течение многих лет покупать книги и рукописи, древние акты и печати, древневосточные памятники письменности и иконы, русские, византийские, итальянские, – все, с чем были связаны его научные интересы. Коллеги
называли Николая Петровича «коллекционером сказочного размаха».

Николай Лихачев. 1916 г.
|
В поисках раритетов Лихачев каждый год с 1892-го до начала Первой мировой войны отправлялся в Европу и на Восток, поддерживал контакты с десятками иностранных антикваров, у незнакомых ему лично покупал по каталогам. В 1902 году коллекция была размещена в двухэтажном особняке на Петрозаводской, 7. Но главной мечтой ученого было создание музея письменности, а это требовало новых денежных средств и места под крышей в общем-
то небольшого лихачевского дома. Когда собрание икон – одно из лучших в стране – достигло полутора тысяч экземпляров, коллекционер скрепя сердце
решил с ним расстаться.
В 1913 году он продал иконы Русскому музею. Затем надстроил дом третьим этажом, где разместил свою большую (девять детей!) семью, а нижние этажи
отвел под коллекцию. Революцию дом пережил почти благополучно: в октябре 1917 года возле него выставили милицейский пост, а в 1918-м выдали «охранные удостоверения» о том, что дом профессора Лихачева, «содержащий особо важные научные собрания», реквизиции не подлежит.
|
|
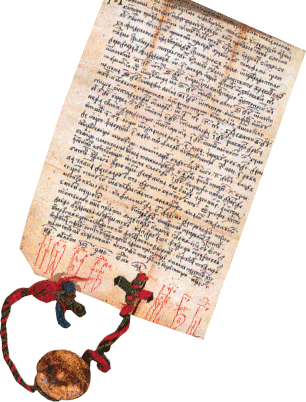
Грамота валашского господаря Влада Дракула. 1437 г.
Позже ученый сам передал свое собрание Археологическому институту, и, оставаясь в прежних стенах, оно получило название Палеографического кабинета.
В 1925 году Николая Петровича избрали действительным членом Академии наук. Вскоре кабинет стал Музеем палеографии АН СССР, а Лихачев – его директором.
Все разрушилось в «год великого перелома»: в 1929-м пожилого ученого арестовали по сфабрикованному ОГПУ «академическому делу» вместе с академиками Сергеем Платоновым, Евгением Тарле и Матвеем Любавским. И хотя спустя четыре года измученный и больной историк вернулся в Ленинград, его огромная
коллекция к тому времени растворилась в собраниях нескольких музеев, библиотек и научных учреждений. Впрочем, меньшая ее часть сегодня снова хранится в доме на Петрозаводской. Она вернулась туда в 1966 году вместе с Ленинградским отделением Института истории Академии наук. Ныне это
Санкт-Петербургский институт истории РАН. В его архиве – 34 тысячи единиц хранения, ранее принадлежавших Николаю Лихачеву. Это документы VII–ХХ веков,
написанные на более чем двадцати языках. Дмитрий Бадалян

Бывший особняк Лихачева, ныне Институт истории РАН
|
|
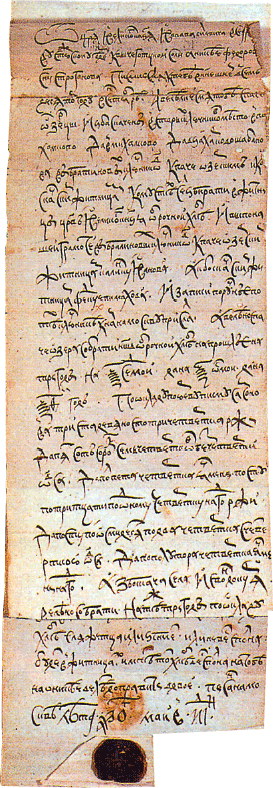
Грамота царя Ивана Васильевича к Соли Вычегодской. 1562 г.
|