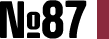1920-е годы в Ленинграде с небольшим временным интервалом тандем архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха спроектировал два абсолютно непохожих друг на друга строения: пропилеи (греч. «преддверие») у Смольного и клуб имени Ленина на далекой заводской окраине, близ нынешней станции метро «Пролетарская». Конструктивистский клуб, стоящий особняком в наследии архитекторов, в общем-то далеких от авангарда, принадлежит к числу высочайших достижений советской архитектуры. Вместе со столь же смелым клубом имени Ильича на Московском проспекте это «наш ответ» всемирно известным творениям Константина Мельникова в столице (собственный дом архитектора в Кривоарбатском переулке, клуб имени Русакова). От вычурных шедевров московского зодчего петербургские здания отличаются строгостью и скромностью, вот он, стиль города, но без классических реминисценций.
Иное дело пропилеи Смольного, которые в 1920-е могли показаться прямо-таки манифестом консерватизма. Они во всем противоположны клубу имени Ленина: симметрия здесь против асимметрии, вертикализм основных членений – против преобладания горизонталей, классические традиции – против новаторства. Сближает эти постройки лишь скромность размеров, камерность, которой так не хватает и дореволюционному дому-гиганту Щуко на Каменноостровском проспекте, 65, и московской библиотеке имени Ленина, возведенной теми же зодчими в 1930-е. Пропилеи и клуб обнаруживают вкус зодчих и к уникальному, и к типичному. Эти тенденции причудливо переплелись в судьбе пропилеев. Щуко и Гельфрейх придумали совершенно новый архитектурный мотив, ставший вскоре невероятно популярным и завоевавший все пространство Советского Союза. Немногие произведения советских зодчих, как это, в силу своей идеологической значимости (пропилеи Смольного!) были выведены за рамки критики и объявлены примером, достойным подражания.
И в Петербурге сохранилось несколько клонов пропилеев, как точных повторов – в Московском парке Победы, у стадиона «Динамо» на Крестовском острове, у парка имени 9 января (перестроены), так и вольно интерпретирующих основной мотив параллельных колоннад. Они могут быть, к примеру, частью здания – таковы колонны в верхних этажах домов на Суворовском, угол 6-й Советской. Да и причудливый ансамбль Ивановской улицы, созданный еще до войны архитекторами Игорем Фоминым и Евгением Левинсоном, можно трактовать как усложненный вариант масштабных пропилеев.
|
|
Главное, что придумали Щуко и Гельфрейх и чего до них нигде и ни у кого не было, так это параллельное расположение колоннад, как бы флигелей некоего дворца или храма, который, однако, отсутствует. Впрочем, центральным корпусом этого ансамбля можно считать здание Смольного, ведь чем, как не безграничным почтением к его автору Джакомо Кваренги, проникнут этот памятник? Что еще может объяснить его успех, как не способность через столетие установить диалог с одним из талантливейших зодчих, когда-либо работавших в классической манере? Прежде подобные ряды колонн с глухой задней стенкой располагались либо по дуге, либо в ряд, как, например, колоннады Воронихина у Большого каскада в Петергофе. Замысел Щуко – Гельфрейха сложней: расположить два симметричных крыла друг против друга, так чтобы они настойчиво приглашали войти куда-то, продолжить сквозь них путь, заданный ритмом колонн. Непросто получить такое решение из традиционных архитектурных элементов, которые даже на бумаге не всегда получается повернуть вокруг оси, не нарушив общего строя.
Греческая архитектура, откуда пришло название подобного сооружения, также едва ли могла помочь нашим мастерам. Монументальные ворота афинского Акрополя были единичным примером, а не типом архитектуры. Афинские пропилеи выглядели иначе, и подражания, которые они породили в XVIII–XIX веках, например мюнхенские Пропилеи Лео Кленце, совсем непохожи на античный прототип.
Когда-то выдающийся французский теоретик архитектуры эпохи Просвещения Марк-Антуан Ложье утверждал, что идеальное произведение архитектуры вовсе не должно иметь стен. Он не знал еще, что в Акрополе в век Перикла такой идеал был воплощен в постройке тех самых пропилеев, с колоннадами, как в традиционном храме, но без стен. Когда это строение во второй половине XVIII столетия заново открыли, описали и зарисовали, в нем увидели альтернативу давно всем известной римской триумфальной арке. Правда, когда пришла мода на строительство подобных античных ворот, римский тип все же возобладал (арки в Париже, Милане, Москве, Брюсселе). Первые греческие ворота – без арки, в виде вертикальной колоннады, легкие и прозрачные, – возвели в 1780-е. Мир знает их как один из символов немецкой столицы, это Бранденбургские ворота. Из триумфальных ворот Петербурга Нарвские – римского типа, Московские – греческого. Последние, очевидно, созданы Василием Стасовым в развитие мотивов берлинского сооружения. Это и есть пропилеи старого типа, которые ни здесь, ни в Берлине никто этим словом не называл, оттого и новые пропилеи у Смольного никому не придет в голову противопоставить Московским воротам. К моменту создания мюнхенских Пропилеев от идей Ложье в европейской архитектуре не осталось и следа, оттого колонны в них оказываются буквально раздавлены меж двух массивных башен, тоже, впрочем, не чуждых греческих прототипов. Но и Московские ворота рождают в зрителе ощущение массивности и тяжести: слишком они огромны! По части легкости и соразмерности человеку пропилеи Смольного (какими бы ни были их отдельные детали) на самом деле оказываются возвращением к греческому идеалу, или, по крайней мере, к тому, как понимал его просвещенный XVIII век, подаривший Петербургу и Смольный институт, и шедевры Кваренги. И. С.
|