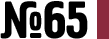графской четой Кушелевых-Безбородко Дюма познакомился в Париже. Он уже давно рвался в Россию, но роман «Учитель фехтования» (1840), посвященный истории декабриста Ивана Анненкова и отправившейся за ним в Сибирь француженки Полины Гебль (см. фильм «Звезда пленительного счастья»), делал невозможным его приезд при Николае I. После смерти императора Дюма с радостью принял приглашение Кушелева-Безбородко, который как писатель писателю предложил ему творческую командировку. За девять месяцев Дюма хватил русской экзотики от Валаама до калмыцких степей, посетив обе столицы, волжские города и Кавказ.
Путевые очерки Дюма отдают хлестаковщиной – легкость мысли необычайная. Автор «Трех мушкетеров» взахлеб описывает парижанам русскую жизнь, вдохновенно пересочиняя поведанные ему истории. Среди информантов – коллеги Кушелева по журналу «Русское слово»: Григорович, Мей, Некрасов. Однако, рассказывая о кушелевской усадьбе, Дюма аранжирует лишь собственные впечатления, и, списав часть пассажей на красное словцо, можно представить, что она представляла из себя в середине позапрошлого века.
«Мы остановились перед большой виллой, два крыла которой полукругом отходили от главного корпуса. На ступеньках подъезда выстроились слуги графа в парадных ливреях. Граф и графиня вышли из кареты, и началось целование рук. Потом поднялись по лестнице на второй этаж в церковь (французы считают этажи со второго, следовательно, церковь находилась на третьем. – Прим. ред.). Как граф и графиня переступили порог, началась обедня в честь «благополучного возвращения», которую достопочтенному священнику хватило ума не затягивать. По окончании все обнялись, невзирая на ранги, и по распоряжению графа нас проводили каждого в свое помещение.
Мои апартаменты были устроены на первом этаже и выходили в сад. Они примыкали к большому прекрасному залу, используемому как театр, и состояли из прихожей, маленького салона, бильярдной, спальни для Муане (слуги Дюма. – Прим. ред.) и меня. После завтрака я отправился на балкон. Передо мной открылся чудесный вид – к реке от набережной спускаются большие гранитные лестницы, над которыми воздвигнут шест футов пятьдесят высотой. На
вершине шеста развевается знамя с графским гербом. Это – пристань графа, куда ступила Великая Екатерина, когда оказала милость Безбородко и приняла участие в празднике, устроенном в ее честь.
Нева здесь раз в десять шире Сены. Она покрыта судами, груженными дровами, которые везут из центра России по внутренним каналам, построенным Петром. Эти суда никогда не возвращаются туда, откуда начали путь. Их продают вместе с грузом и разрубают на дрова. На другом берегу реки возвышается самое прекрасное культовое здание Петербурга – Смольный монастырь, ныне пансион благородных девиц. Живописность ансамбля немного портит своим казарменным видом огромное четырехугольное здание, равномерно прорезанное восемьюдесятью окнами, оно было построено для дворянских вдов (Дюма не понравилось здание Смольного, построенное Кваренги. – Прим. ред.). Кроме судов, что стоят на якоре у берегов, оставляя середину реки свободной, река буквально кишит кораблями, которые идут под парусами вверх и вниз по течению, между ними от одного берега к другому снуют многочисленные пестрые лодки, окрашенные в разные цвета.
|
|

Карикатурист Николай Степанов полагал, что Дюма записывает истории о России со слов «русских, хорошо знающих страну из иностранных источников»
Если не считать двух колоколен на том берегу, где мы находимся, все строения низкие и без претензии (Дюма видел колокольни церквей на Охте, снесенных в 1930-е. – Прим. ред.). Не надо забывать, что мы за пределами города. Большим пространствам недостает живости, и тем большее очарование придают им великолепные массы зелени.
От самого крыльца начиналась широкая, шагов в двадцать, липовая аллея, тянущаяся примерно на километр. Это главная магистраль парка. По
обе стороны за пестреющими цветами куртинами на мраморных пьедесталах возвышаются два бронзовых бюста раза в четыре больше натуральных размеров – князя Безбородко и графа Кушелева, двух зачинателей нынешнего рода Кушелевых-Безбородко. В парке нашлось место для речки, храма в коринфском стиле, в ротонде которого колоссальная бронзовая статуя Екатерины II, изваянной в виде Цереры. Еще есть две деревни и полторы сотни разбросанных там и сям домиков с cадом и огородом. Около пятидесяти арпанов парка предназначены исключительно для графа и его семейства, но по воскресным дням открыты для публики. Трижды на неделе для удовольствия гуляющих играет музыка. По воскресеньям музыканты одного из полков гарнизона играют пред дворцом на липовой аллее, и на эту музыку собираются до трех тысяч слушателей.
В парке хватило места и для театра. Там собираются сыграть «Приглашение на вальс» и еще пьесу сочинения самого графа, как только мой друг – виконт де Сансийон – прибудет к нам из Парижа». Дюма не упоминает целебных полюстровских источников, а именно они немало способствовали славе графского парка. Уже с 1840-х годов жители Петербурга ездили к Кушелевым-Безбородко «на воды». Лечение сочеталось с увеселениями – вблизи нынешнего Полюстровского проспекта были построены курзал, купальни с комнатами для проживающих. Часть участков сдавалась в аренду под
дачи, которые снимали актеры Александринского театра, литераторы, ученые. Вечерами на курорте устраивались танцы, концерты, фейерверки. С трудом, но верится, что летом на концерты в графский парк собирались тысячи слушателей. В 1868 году Полюстровский курорт сгорел, а в 1870 году скончался, не оставив наследников, и граф Кушелев-Безбородко. В самом дворце в 1896 году разместилась Елизаветинская община сестер милосердия, и до сих пор в здании располагается медицинское учреждение – районный противотуберкулезный диспансер. А.П.
|
|
|
|
|

Григорий Кушелев-Безбородко
(1832–1870)
Последний из рода и Кушелевых, и Безбородко. Закончил Александровский лицей, служил при канцелярии кабинета министров, попечительствовал над гимназиями, богадельнями и больницами. В памяти современников остался как страстный шахматист и литератор «натуральной школы», близкий к Островскому, Мею, Григоровичу, чьи произведения издавал. Свои очерки и пьесы публиковал под псевдонимом Грицко Григоренко. Устраивал в доме на Гагаринской улице, 1, литературные обеды, на которые были званы все писатели Петербурга, и шахматные вечера с известными шахматистами.

Дюма занимал апартаменты с балконом на втором этаже
|