
Ворота Смоленского кладбища
Камская улица
Так уж получилось, что все основные архитектурные достопримечательности квартала сосредоточены вдоль Камской улицы – дороги, ведущей на кладбище. В названии улицы ничего траурного нет: во второй половине XIX века многие второстепенные проезды на Васильевском получили имена в честь рек Российской империи (Камская, Донская). Зато ее последнему участку удалось до сих пор сохранить нечто непередаваемое печально-камерное, вполне соответствующее назначению последнего пути, – и этот образ улицы сохранялся неизменным последние сто лет.

Церковь Смоленской Божьей Матери
На «кружевной веер» над окном, возможно, повлиял французский ампир
Храмы Смоленского кладбища демонстрируют все три возможных варианта судьбы культовых построек в советское время. Церковь Смоленской Божьей Матери практически не закрывалась и в настоящее время выглядит почти как до революции. Воскресенский храм, проработавший лишь несколько лет, долгое время за-тем использовался не по назначению и сейчас выглядит в общем так же, как в конце советской эпохи. А Троицкая церковь вовсе исчезла. Иметь более одного действующего храма на кладбище в советское время считалось недопустимым. Главная церковь кладбища в основе своей относится к 1790-м годам, ее автор – Алексей Иванов – второстепенный представитель русского классицизма, известный преимущественно как преподаватель Академии художеств времен Ивана Бецкого, когда она более напоминала тюрьму для малолетних, нежели школу искусств. Андреян Захаров, один из немногих выпускников архитектурного класса тех мрачных лет, достигших известности, – его ученик. Но
судить о том, каким архитектором был сам Иванов, по Смоленской церкви в ее теперешнем виде невозможно. Здание многократно перестраивалось на протяжении XIX века, став в результате раза в два больше. Так, только в конце позапрошлого века окна храма получили свое новое обрамление, напоминающее веер и скопированное со Спасо-Преображенского собора Василия Стасова. А откуда этот странный мотив у Стасова?
Сложно сказать, наверное, из французского ампира. Вообще же Смоленский храм выглядит немного провинциально. Такие постройки легко отыщешь где-нибудь в глуши и в наши дни.

Церковь Смоленской Божьей Матери
Церковь Воскресения Христова
Этот храм, наоборот, единственный в своем роде. Другого такого в Петербурге нет, быть может, нет и во всей остальной России. Этот
запоздалый пример подражания допетровскому зодчеству – современник смелых исканий модерна. Храм построен в 1903 году. Выбор объекта для подражания совершенно неожиданный! Дело в том, что, десятилетиями копируя храмы XVII века, зодчие странным образом не замечали такого яркого явления самого конца столетия, как московское (нарышкинское) барокко. Теоретически о нем, конечно, помнили, а вот как применить на практике, не знали. Архитектор Валентин Демяновский, участвовавший в реконструкции церковных домов по Камской улице, автор проекта и этого незаурядного здания. Он не только довольно точно воспроизвел своеобразные детали (правда, вместо подмосковного белого камня, в оригинале
эффектно контрастирующего с краснокирпичными стенами, здесь использован бетон), но и в интерьере избрал путь точного следования древнерусским образцам. В то время как, например, Альфред Парланд, автор Спаса на Крови, снабдил свою вольную вариацию на тему Василия Блаженного совершенно неуместным большим залом, Демяновский разделил храм на несколько самостоятельных объемов: главное помещение, два придела, галерею. И такая дробность планировки совершенно в духе XVII века. Еще лет десять назад в этом мог убедиться любой желающий, кто не побоялся бы проникнуть в руины храма. Сейчас его отдали церкви, но, по всей видимости, средств на капитальную реставрацию не хватает. Поэтому он стоит заколоченный, оставаясь одним из немногих культовых зданий города, до сих пор не приведенных в порядок.

За руины Воскресенской церкви недавно взялись реставраторы
|
| | |
Часовня Ксении Блаженной
Демяновский проектировал на кладбище еще одно сооружение – знаменитую часовню Ксении Петербургской. Однако заказ отдали другому, совсем неизвестному Александру Всеславину (его вклад в церковное зодчество города дополняет деревянный храм в Коломягах). Конечно, значение этой постройки для верующих во много раз превосходит ее художественную ценность. Здание долгие годы простояло в руинах, отреставрировано к тысячелетию крещения Руси, а луковица появилась еще позже – к трехсотлетию города.
Ворота и бывшая богадельня
Пожалуй, самая ценная часть кладбищенского ансамбля – ворота с богадельней, возведенные в начале XIX века по проекту Луиджи Руски,
мастера малых форм, умевшего и самым скромным постройкам придать монументальный вид, о чем свидетельствует всем известный портик его имени. Мемориальная доска, посвященная Арине Родионовне, возможно, апокрифична – есть и другие предположительные места захоронения «голубки дряхлой», например на Большеохтинском кладбище.

№ 12–22
Все дома по Камской улице раньше принадлежали Смоленскому кладбищу. Квартиры в них сдавались внаем, что делает их старейшими
доходными домами города. Они строились и перестраивались весь XIX век. Необычно высокие крыши у двух из них отсылают к совсем уж
отдаленным временам, столь архаичный тип завершения для классицизма не характерен. Возможно, в отсутствие профессионального
архитектора здесь, на окраине, проявилась таким образом традиция, в парадной части города напрочь забытая. Сложнее сказать, с какого
времени фасады этих домов украшают примитивные нарисованные наличники – мотив Петербургу совсем уж чуждый.

Башенка дома на углу Камской и 19-й линии
№ 12
Здание на углу 17-й линии словно бы служит вратами большого города, являя собой типичный пример доходного дома рубежа столетий.
Его автор Иван Яковлев, один из тех, кто, не принадлежа к числу ведущих мастеров эпохи, тем не менее подарил городу немало крупных,
заметных зданий, определяющих облик целых районов. Такие его коллеги, как Алексей Зазерский или Александр Лишневский, также в начале XX века преуспели в создании многоэтажных и многоквартирных домов, а Яковлев занимался еще и учебными заведениями. Любили эти зодчие угловую постановку, дабы воздействовать на панораму сразу двух улиц. При этом в отношении отдельных деталей они оставались эклектиками, активно используя все, что в тот момент было в моде. В здании на Камской архитектор задействовал весь репертуар форм модерна. Есть здесь и экзотические цветы, и демонические женщины, и обилие кривых линий, и сильно вынесенный карниз. До революции за домом располагалась камнерезная мастерская, придававшая, по воспоминаниям очевидцев, кладбищенский облик и прилегающим линиям.

Бульвар на 19-й линии
19-я линия
Между Средним и Малым проспектами в начале ХХ века на средства городской думы был устроен бульвар, доживший до сегодняшнего дня.
Летом 1941-го здесь были вырыты щели, в которых укрывались во время воздушной тревоги местное население, рабочие соседних заводов и
трамвайного парка. На углу Малого проспекта в 1950-е годы возвели корпуса объединения имени Козицкого. Сейчас двухэтажную столовую
занимает Гаванское отделение банка «Санкт-Петербург», а цеха перешли к компании «Транзас».

Старые корпуса эскалаторного завода
Малый проспект
№ 51а–57
Бывший завод «Эскалатор» История предприятия началась в 1880 году, когда часть Смоленского поля заняли подковный завод Посселя и кузница купца Петрова, превращенная им позднее в небольшой чугунолитейный завод. С той поры сохранились краснокирпичные цеха, которые можно увидеть при открытых воротах со стороны Малого проспекта. После революции и национализации завод получил имя «Красный металлист» и прославился среди прочего изготовлением первых отечественных эскалаторов.
|
| | |
В 1932 году, когда стало ясно, что первая линия московского метро пройдет на глубине 10–30 метров, встал вопрос, как доставлять на такую глубину пассажиров. Метро в других европейских городах – Париже, Будапеште – обходилось тогда лестницами. В лондонском метро эскалаторы применялись с 1911 года, но переговоры об их поставках
с лондонским отделением Otis и немецкой фирмой Karl Flohr ни к чему не привели. Цена 4 миллиона рублей золотом оказалась неприемлемой,
и решено было строить эскалаторы своими силами. Заказы в 1934 году получили два завода: московский «Подъемник» и ленинградский «Красный
металлист». «Эскалатор для нашего производства был совершенно неизвестной машиной, – вспоминал позже директор завода. – Литературы о нем достать не удалось. Несколько иностранных проспектов, десяток снимков, рассказы людей, повидавших эскалаторы за границей, – вот все наше техническое “первоначальное накопление”… А эскалаторы предстояло соорудить самые крупные в мире. Высота их по вертикали составляла от 22 до 30 метров. Любая ошибка в расчете даже маленькой детали нарушила бы взаимодействие всех узлов. Обнаружить этот просчет в заводских
условиях мы не могли, ибо монтаж эскалаторов производился уже в Москве, на станциях». Ленинградские эскалаторы Н-30 в итоге оказались удачнее московских, и заказы пошли на «Металлист». Завод на Васильевском поставил эскалаторы для второй и третьей линий московского метро, а в начале 1950-х – и для ленинградских станций. В 1952 году его объединили с соседним заводом имени Котлякова и впоследствии назвали производственным объединением «Эскалатор». После кризиса конца 1990-х объединение распалось на ЗАО «ЭЛЭС» (строит эскалаторы для тоннелей) и ЗАО «ЛАТРЭС» (производит поэтажные эскалаторы для магазинов и транспортных узлов). Они расположены напротив друг друга по обе стороны
Малого проспекта.

Компания «Транзас»
№ 54–60
IT-компания «Транзас» (Transport Safety Systems) была создана в 1990 году несколькими капитанами Балтийского морского пароходства.
«Транзас» производит передовую электронику: морское и авиационное бортовое оборудование, аэронавигационное обеспечение, морские электронные карты. Среди его клиентов как организации ВМФ и предприятия ОПК, спасательные службы, нефтедобывающие компании, так и владельцы маломерных судов и яхт. Также компания создает тренажеры-симуляторы для пило-тов вертолетов, диспетчеров, на игровых версиях можно поиграть в торгово-развлекательном центре «Норд». В 2005 году «Транзас» выиграл тендер на оснащение всего военно-морского флота Германии навигационным оборудованием своего производства. Занятно, что таких успехов компания достигла безо всякой поддержки государства. Ее годовой оборот уже в 2006 году превысил $160 миллионов, дистрибьюторская сеть развернута в 110 странах мира. При взгляде на зеркальные корпуса на Малом проспекте ни у кого не возникает сомнений в ее преуспевании.

Спортивная школа на Малом проспекте
№ 66
В 1912 году на участке между Малым и Средним проспектами близ будущей улицы Беринга устроили городскую мусоросжигательную станцию. После ее эвакуации в 1920-е годы территория отошла под спортплощадки – так тогда называли скромные стадионы, которые строились силами рабочих местных заводов, например «Севкабеля». Спортивную биографию местности продолжил стадион Военно-морского флота, оборудованный в 1950-х
годах. В 1988-м его дополнил огромный крытый бассейн ВМФ. Еще раньше с другой стороны стадиона построили детскую районную спортивную школу олимпийского резерва, за проект которой архитекторы Сергей Евдокимов и Татьяна Хрущева были удостоены в 1973 году Госпремии РСФСР. Сегодня по соседству действует завод стрелкового оборудования.
Средний проспект
№ 77–79
Депо Василеостровского трампарка, сохранившиеся до сих пор почти без изменений, были построены в 1906–1909 годах по типовому проекту, разработанному техником Леонидом Горенбергом. Также парку до сих пор принадлежат административное здание (№ 79) и общежитие. Они построены в 1913–1915 годах по проекту Александра Ламагина.
Улица Беринга
Проходит по краю бывшего Смоленского поля. Современное название получила в 1982 году в честь Витуса Беринга – руководителя русских Камчатских экспедиций 1725–1741 годов. Об этом походатайствовал НИИ Арктики и Антарктики, который в 1986 году переехал в специально сооруженные для него здания под № 38. В них помимо научных отделов и приборостроительных мастерских находится ледовый бассейн с холодильниками, предназначенный для испытания моделей полярных судов.

Музейное депо Василеостровского парка
|
| | |
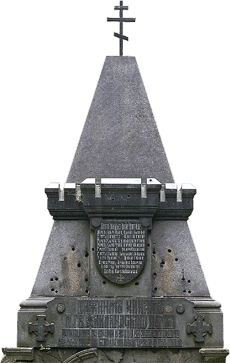
Памятник солдатам и офицерам Финляндского полка, погибшим при взрыве в Зимнем дворце, устроенном народовольцем Степаном Халтуриным

Музейный трамвай «Бреш» стоит не в депо, а в открытом доступе на Среднем проспекте
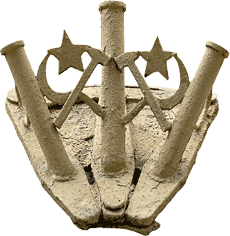
Соц-арт малых форм. Флагшток на административном здании трампарка
|