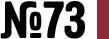ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: ПРО СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Первый жилмассив
Три дома для семейных, два – для холостых, гостиничного типа, ясли, школа, магазин, столовая, библиотека и лекционный зал. Это не реклама современного «элитного комплекса», а описание городка для рабочих начала ХХ века.

Рабочие у Гаванского городка. 1914 год
реди хороших русских слов, отмененных советским новоязом, «городок» в значении «комплекс зданий единого назначения, чаще всего складских, реже жилых». Не вполне город, но подобие города. Отголоски такого значения сохранились, пожалуй, лишь в словосочетании «военный городок». За районами массовой жилой застройки 1920-х закрепился термин «жилмассив» (а было еще и таинственное «жилконцентр»), за более сложными комплексами последующих времен – «микрорайон». Их предшественником может считаться необычный ансамбль из пяти корпусов в конце Гаванской улицы.
Дореволюционный Петербург представляется городом великолепных доходных домов с фешенебельными квартирами. Где-то на окраинах были, правда, еще и неприглядные рабочие бараки, в которых зрела революция, но о них теперь предпочитают не вспоминать, пускай кое-где подобные сверхдешевые дома сохранились и по сей день (например, на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский). Золотой середины меж этими крайностями, по существу, не было, несмотря на попытку создания в начале XX века двух городков. И действительно, в Гавани и на Выборгской стороне (при заводе Людвига Нобеля) появились кварталы, отдаленно напоминающие жилые комплексы 1920-х. Но, конечно, масштабы были не те, да и важнейшее качество советского жилья – его бесплатное предоставление – в условиях капиталистического общества было абсолютно невозможно. Впрочем, в 1920-е годы аналогичные советским жилмассивы успешно строили во многих странах мира, хотя почти везде за жилье приходилось платить. Однако путем различных ухищрений удавалось и в условиях экономического кризиса максимально снизить стоимость жилья. На Западе подобные дома предназначались малообеспеченным рабочим семьям, тем, кого нужда толкала к бунту и неповиновению. «Архитектура или
революция» – бросил в лицо власть имущим Ле Корбюзье как раз в те годы. Но, как правило, такое строительство вели в странах и городах, уже
переживших революцию. Не случайно больше всего примеров социального строительства – в Петербурге, Берлине и Вене, меньше всего – в избежавшем потрясений Париже.

Рабочий жилмассив в Копенгагене
Можно подумать, что жилмассив принадлежит к числу самых молодых архитектурных жанров, что в прежние времена ничего подобного не было, как не было современного производства, современной инфраструктуры. Однако, как ни странно, социальное жилье гораздо старше многих других достижений цивилизации. Стоит вспомнить о первом жилмассиве, основанном в далеком 1514 году.

Район Lower East Side в Нью-Йорке
Его создатель Якоб Фуггер – один из богатейших людей того времени, ловкий промышленник и финансист, «спонсировавший» все основные войны, политические процессы и географические открытия. В родном немецком Аугсбурге он возвел для себя огромный дом, одновременно служивший офисом могущественной компании. Но не забыл и беднейших жителей, для которых на окраине города устроил необычный поселок, названный Фуггерай и сохранивший свое основное назначение – давать приют малоимущим – до сего дня. Этим городком все так же владеет семья Фуггер, свято соблюдающая завещание Якоба: жилье предоставлять только католикам и только тем, кому действительно больше некуда податься. Существует очередь на получение квартиры в этом поселке, но уж те, кому посчастливится туда попасть, платят за жилье (исключая электричество, воду и газ), как в XVI веке, один рейнский гульден, то есть восемьдесят восемь центов. В год. Почти как в советские времена. Конечно, трудно представить себе, кто же занимает дома в этом городке теперь. А в начале XVII века среди его обитателей можно встретить имя некоего Моцарта – предка Вольфганга Амадея. Раз он доказал свое право жить в этом месте, следовательно, был исключительно беден. Впрочем, уже дед композитора имел в Аугсбурге собственный дом, а отец покинул Швабию и переехал, как известно, в Зальцбург.
|
|
Фуггерай представляет собой настоящий город в городе: его ворота и сейчас запирают на ночь, а в прежние времена в отношении всех жильцов действовал строгий комендантский час. Нельзя сказать, что жилмассив этот мог существовать автономно в плане как материального, так и культурного обеспечения, хотя своя церковь здесь была. В позднейших городках ее место займут всевозможные клубы и кружки. Вообще же, облик Фуггерая удивительно близок XX столетию. Небольшие жилые корпуса в два этажа построены правильными рядами на определенном расстоянии друг от друга и окружены зеленью садов. Они заметно выбиваются из традиционной картины тесного средневекового города! Кажется, об архитектуре здесь не может быть и речи, но в скромных фасадах, лишенных украшений, можно заметить отдаленное предчувствие эстетики современного жилища, где чистота и уют ценятся выше внешней привлекательности, тем более роскоши. Для Германии, да и для всей Европы поселок в Аугсбурге долго оставался единичным экспериментом. В XVII веке центром массового социального строительства становится Копенгаген.
По инициативе датского короля на краю города появляются кварталы типовых жилых домов, предназначавшихся рыбакам и морякам. Морская тематика отражена в названиях некоторых улиц: среди них есть Дельфиновая, даже Крокодилья. Комплекс получился гораздо масштабнее аугсбургского, хотя и проще. Но удивительно, что желтый цвет фасадов здесь почти такой же. Возможно, в нем видели особый знак бедности, поскольку частные дома в датской столице красили в другие цвета. На протяжении следующих веков подобные жилмассивы строились чаще всего при заводах и далеко не всегда имели вид откровенных бараков. Две основные идеи – типовое и раздельное жилье – оставались характерной чертой таких кварталов, теперь распространившейся на целые города. Ну и конечно, ничего лишнего, никаких украшений. В этом смысле постройки Гаванского рабочего городка отличает даже некоторый избыток деталей. Район для строительства, правда, выбрали совсем не престижный – неподалеку от гигантской свалки и почти у самого моря, продуваемый ветрами и затопляемый в наводнения. Вероятно, земля здесь была исключительно дешевой. Нобель свой городок строил в иных условиях – просто потому, что жилища рабочих было удобнее всего устроить между заводом и собственным домом фабриканта. Зато архитектура у них поскромней – кирпичный стиль – и этажей поменьше. Дома Гаванского городка, наоборот, вполне импозантные, они могли бы украсить улицы и в центре города: неоштукатуренные фрагменты стен эффектно обрамлены традиционными для Петербурга деталями, имитирующими каменную кладку. Необычны крыши с сильным выносом карниза и острыми щипцами – немного в английском стиле. А главное – высота в пять этажей, которая снова станет общим правилом для жилой застройки только к началу 1930-х, после многих лет разрухи, когда и конструктивистские дома строились в три-четыре этажа, не больше. При всем том архитектор Николай Дмитриев словно бы не заметил популярного в начале века модерна. Лишь много позже, в своей последней и, вероятно, лучшей работе – ДК имени Цюрупы на Обводном канале, дом № 181, – он обратится к позднему, строгому варианту этого стиля. В Гаванском городке архитектура все же далека от стандартов доходного жилья, и дома напоминают скорее учебные заведения или больницы. Последнее сравнение особенно уместно, ведь именно при строительстве больничных зданий особое внимание уделяли инсоляции (освещенности) помещений, для чего уже в середине XIX века – задолго до того, как та же идея пришла в жилую архитектуру, – строили отдельные корпуса, ориентированные по сторонам света. Прекрасный пример в Петербурге – созданный в начале XX века комплекс больницы имени Мечникова, парадоксально близкий по своей планировке к соседним советским микрорайонам, ведь все корпуса здесь ориентированы строго по меридиану, чтобы солнечный свет доставался и той и другой стороне.
Жилые дома возводили также по широтам: квартиры располагали так, чтобы жилые помещения выходили на юг, кухни и лестничные клетки – на север. В Гаванском городке (в отличие от городка Нобеля, где дома стоят вдоль улицы вплотную друг к другу) присутствуют оба варианта: два корпуса поставлены примерно по направлению север – юг, три – перпендикулярно. Но точного подчинения архитектуры географии не случилось, так как планировка была задана Гаванской улицей, которую, вероятно, собирались продлить до Смоленки, хотя из этого ничего не получилось.
Сходство с больничной архитектурой, по-видимому, способствовало тому, что в годы Первой мировой войны в корпусах Гаванского городка разместили военный госпиталь. Под него были задействованы, конечно, не частные квартиры, а всевозможные общественные помещения в первом этаже. Их здесь в избытке, что напоминает советские жилмассивы, где все было под рукой – и школа, и поликлиника, так что можно было по-долгу не покидать свой район. В Гаванском городке также имелись прачечная, медпункт, душевые, столовая, магазины, школа и тому подобное. Был даже свой кинематограф! Насколько замкнутой была жизнь в городке, теперь сказать сложно, но забор, ограждающий внутреннюю территорию, кое-где между домами сохранился, когда-то за ним заканчивался город. А вот сделать этот жилмассив раем для бедных Товариществу борьбы с жилищной нуждой, созданному известным юристом и общественным деятелем Дмитрием Дрилем, не удалось. Квартиры были все-таки недешевы и доставались людям обеспеченным, так называемой рабо-чей аристократии: служащим, мастерам заводов. После революции бывшую аристократию, как известно, подвергли уплотнению, новому же привилегированному классу старались давать кварриры пусть и небольшие, но все же отдельные – в новых домах нового стиля. Если обращать внимание на архитектурные детали, постройки Гаванского городка едва ли напоминают конструктивистские жилмассивы. И в самом деле, архитектуре, да и обществу в целом предстояло проделать большой и кровавый путь, чтобы прийти к этой действительно новой культуре. По сравнению с жилыми кварталами первых лет советской власти, тем более с новостройками ее последних лет, Гаванский городок кажется такой же экзотикой, как и далекий аугсбургский Фуггерай или дома на Крокодильей улице в Копенгагене. Иван Саблин
|
|
|
|
|
Гаванский городок

«Комнаты наши были маленькие. В углу в наружную стену была встроена кладовка с узкой дверью и треугольными полками. Окошечко на
улицу держали открытым, и зимой кладовка служила холодильником. В одном из домов имелись библиотека и зал для лекций и концертов. Я брала уроки музыки, пользуясь роялем зала. Иногда танцевала с девочками на вечерах в том же зале… С начала войны все общественные помещения дома были заняты под госпиталь. Выздоравливавшие солдаты гуляли во дворе или сидели на скамейках на улице у железной ограды двора». Академик Пелагея Кочина-Полубаринова – о квартире, в которой выросла

Сегодня общественные помещения Гаванского городка занимают магазины и подростковые клубы
|
|
|
|
№1 (73) январь 2009 |
 |
|