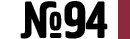А фасад в вечернее время, так же как на черно-белом снимке, можно принять за гостя из классического прошлого. Современная в нем только подсветка
Дома и дворы
Современное здание Географического общества построили к 1909 году. В переулок оно выходит узким фасадом и оттого может показаться сначала каким-то чересчур скромным и незаметным, но это типично для плотной застройки Петербурга капиталистического. Многие дома в то
время были обречены уходить основными своими корпусами куда-то в глубь квартала, с трудом выгадывая несколько дорогих метров на красной линии ближайшей улицы. А там, в глубине, рождались удивительные сочетания разновеликих и разновременных дворовых флигелей, незастроенных пространств, проходов и проездов. Кажется, архитектуре как виду искусства доступ туда был закрыт. Она застревала в узких улицах, оставляя внутриквартальное пространство строительству в чистом виде – строительству весьма добротному. Более того, бродя по таким внутриквартальным лабиринтам, любители старого города научились отыскивать и в этой изнанке столицы своеобразную красоту. Величественные брандмауэры с причудливым рисунком где придется пробитых окон, пожарные лестницы, трубы, заборы – во всем этом при желании можно увидеть нечто средневеково-романтическое или, наоборот, обращенное в будущее, ибо здесь, не сдерживаемая традиционными вкусами, прогрессивная инженерия породила новую эстетику: никаких украшений, вообще ничего лишнего, одна лишь суровая необходимость.
И все же интереснее, если архитектор отваживался освоить эту неизведанную территорию, радуясь возможности отказаться здесь от многих традиционных приемов. Именно это произошло в Демидовом переулке, а потому не одна лишь романтика старых дворов, но и живой интерес к своего рода «будущему в прошедшем» – к тому, как вызревал в недрах старинных городов авангард, – заставляет приходить снова и снова в этот огромный внутриквартальный двор, где так эффектно возносится к небу кирпичная стена с большими окнами, непохожая на то, что творится в пространствах соседних улиц и площадей. Наверное, строители сознательно противопоставили темно-красный кирпич этих новых
стен традиционной штукатурке и привычному желтому цвету дворовых построек. Прежде голый кирпич допускался только в промышленно-складском строительстве, на заводских окраинах, и уж точно не по соседству с Исаакиевским собором и Мариинским дворцом. Поразительно и расположение окон. Что, если украсить таким «узором» из отверстий на плоской стене уличный фасад? Похоже, что именно по такому пути зодчество пойдет в дальнейшем.
Фасад на ощупь
Как и в жилых домах рубежа XIX–XX веков, скуку принципиальной однофасадности компенсировали в первую очередь не дворы, но вестибюль и парадная лестница. Фасад, встречающий посетителя со стороны улицы, довольно прост. Что это? Еще один памятник позднеклассической эпохи, когда Петербург застраивали скромными, почти типовыми фасадами с редкими орнаментами и обычно без колонн? Но если «включить
цвет», дом уже не покажется старым. Материалы, которыми он отделан, не только по цвету, но и по своей фактуре характерны именно для начала ХХ века. Такой стиль господствовал в Петербурге на рубеже веков.
|
|
Буквально десятью годами ранее подобный каталог новейших строительных материалов на фасаде был бы невозможен, а десять лет спустя он покажется чем-то безнадежно устарелым, до того стремительно менялось в то время искусство!
Рустованный первый этаж, отделанный камнем, не кажется чем-то современным, однако в классическую эпоху жилые дома такого монументального оформления получить не могли. Впрочем, монументальность здесь относительная, ведь контраст с верхними этажами, украшенными блестящим облицовочным кирпичом, призван произвести совсем другой эффект, в высшей степени характерный для той эпохи. Дело в том, что довольно резкий отказ от испокон веков доминировавшей в облике Петербурга пестрой штукатурки можно объяснить стремлением возбудить в зрителе острые чувственные переживания новых зданий, где зрительное (при сохранении пестроты) уступает место осязательному. Вот для чего понадобились новые материалы с такой контрастной фактурой! Шершавый низ противопоставлен здесь гладкому
верху, легкая плитка – тяжелому камню и, что не менее важно, металлу — на самом верху. А все, что можно (или хочется) потрогать, порождает лишь камерное, «ручное» впечатление, сколь бы велики ни были размеры здания. Неудивительно, что зодчие, да и их заказчики тоже, довольно быстро разочаровались в подобных приемах, характерных прежде всего для стиля модерн. Одно дело – частный особняк, другое — официальное здание, банк или учреждение науки и культуры. Ему явно будет не хватать солидности, если отделать фасад такой вот плиткой или чем-то подобным.
Сочетание несочетаемого стало казаться чем-то пошлым, близким к китчу, и те, кто по этой причине стал искать спасения в старом добром
классицизме, были не так уж и не правы. После первого эффекта новизны наступила усталость от обилия контрастов. Металлические гирлянды на темном кафельном фоне вместо классического фриза, плитка вместо штукатурки – в конце концов, это не так уж и непохоже на современное строительство, когда «былое великолепие» воссоздается подручными средствами – материалами из ближайшего строительного супермаркета. И в ходу теперь уже не кованая, а пластиковая «лепнина».
У фасада здания Географического общества, конечно, с таким дешевым украшательством общего немного, пожалуй, это все же эксперимент. Зодчий словно пытается рассказать о вечных ценностях архитектуры – строгости, симметрии, классичности, – но на современном языке, отсюда и все эти новейшие технологии. Дом ведь начисто лишен каких-либо орнаментов стиля модерн, рисунок гирлянд (внутри и снаружи) вполне классический, и даже упрощенные сандрики заставляют вспомнить скорее уж эксперименты позднего классицизма 1830-х (скажем, часовню больницы Марии Магдалины на 2-й линии Васильевского острова), нежели какие-то стилистические течения рубежа веков. Да и то, что вход в дом расположен сбоку, а не по центру, для классицизма было явлением обычным: парадный подъезд уравновешивает расположенный справа въезд во двор.
|

Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен на заседании в Географическом обществе.
1913 год. Фото Карла Буллы
|
|
|
|
бщества, подобные российскому, создавались именно в целях объединения путешественников всех стран. Точнее, стран Европы, в XIX веке властно подчинившей своему влиянию весь остальной мир. Но завоевать было мало, следовало еще и изучить присвоенное. В прежние времена этим занимались как бы между делом конквистадоры, купцы, дипломаты. Теперь же поддержка государства, с одной стороны, международный обмен идеями и открытиями, с другой, должны были поставить на строго научные рельсы дело превращения враждебного и далекого в понятное и близкое. Первенствовали здесь французы, образовавшие свое общество в 1821 году, за ними спустя всего семь лет последовали немцы (речь о Пруссии); только к 1830 году подтянулась «владычица морей» Великобритания, Россия же оказалась четвертой: общество в Петербурге появилось в 1845 году.

Уделяя окнам внимание больше обычного, зодчие ХХ века рассчитывали и на такие вечерние эффекты

Амундсен и РГО
В ряды Императорского Русского географического общества принимались не только русские путешественники, изучавшие родную землю
и людей ее обитающих, но и иностранцы. Почетным членом в 1907 году был избран выдающийся полярный исследователь Руаль Амундсен. На торжественном заседании РГО он рассказал о своем трехлетнем плавании вдоль арктического побережья Северной Америки. Позднее он первым прошел из Атлантического океана в Тихий Северным морским путем. Эта фотография сделана 3 августа 1927 года, когда Амундсен оказался в Ленинграде проездом из Японии в Норвегию.
Лестница-сюрприз
Все меняется, стоит лишь посетителю перешагнуть порог. Тут уже его встречает бескомпромиссная асимметрия, унося в вихре изысканных дуг. Вправо закручивается остекленный изгиб гардероба, ему вторит полукруглая площадка внизу, естественно, асимметричной лестницы, и все это без каких-либо традиционных деталей, за которые мог бы зацепиться изумленный взор, словно хозяева – знаменитые путешественники – желали подготовить гостя к неожиданным приключениям. Впрочем, смелая пространственная игра продолжается недолго, бурное движение успокаивается, а наверху, в лекционном зале и библиотеке, царит вполне строгая, официальная атмосфера. Тем не менее
пространство от входной двери до первых ступеней лестницы – это ярчайший интерьер начала XX века, неважно, относить ли его к модерну или пытаться увидеть здесь нечто подготавливающее современную архитектуру. Гавриила Барановского отчего-то почитают в Петербурге чуть ли не первейшим мастером стиля модерн, мимо которого он, по правде сказать, прошел по касательной. Но что бы ни говорили, его самое заметное творение – Елисеевский магазин – еще не вполне модерн, а следующая работа, здание Географического общества, уже не модерн. Только на Невском возобладал академизм позднего издания – стиль Всемирных выставок с обилием помпезной мишуры при некоторых, впрочем, новаторских орнаментах. Здесь же зодчий, словно искренне раскаявшись в недавнем столь грубом вторжении в ансамбль центральной улицы города, предлагает нечто контекстуальное. Невский-то уже давно поменял свой облик, тогда как именно в Демидовом переулке до сих пор сохраняется докапиталистическая застройка, напоминающая садовниковскую панораму Невского проспекта. Иван Саблин
|