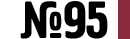В центре здания на втором-третьем этажах была церковь, в советское время превращенная в актовый зал
огадельню устроили согласно завещанию купца первой гильдии Фирса Садовникова. Продав его имущество и присоединив капитал его компаньона Саввы Герасимова, распорядители положили средства в банк и начали использовать только в 1880 году, когда за счет процентов сбережения выросли вдвое и достигли миллиона рублей.
Купив большой участок на берегу Малой Невки, наследники заказали проект известному архитектору Федору Харламову. В богадельне призревались «беднейшие граждане Санкт-Петербурга из купцов, мещан и ремесленников». Здесь же открыли детский приют и школу для сирот и бедных детей Аптекарского острова. После революции в бывшей богадельне устроили детский приемник. О том, что происходило в его стенах, вспоминает один из преподавателейкружководов Андрей Батуев.
«В Центральный карантинно-распределительный пункт – ЦКДРП – поступали дети, потерявшие семью, беспризорники, жившие на улицах, как
тогда говорилось, “на гопе”. Они прятались в подвалах, в люках, переезжали из города в город в угольных ящиках поездов, попрошайничали, воровали. После очередной облавы милиция привозила их невероятно грязных, вшивых, в лохмотьях. В приемнике их мыли, стригли, одевали в чистое. На каждого составлялись некая “история жизни”, заключение врача и педолога (так называлась тогда наука о воспитании). Затем детей распределяли по отделениям – в дошкольное, младшее или старшее. А молодцов с тяжелым уголовным прошлым отправляли в группу СИВ – социально-индивидуального воспитания. После двух-трех месяцев наблюдения нормальных детей отправляли в соответствующие возрастные группы интернатов, больных-хроников – в стационары, умственно отсталых, или, как их называли, УО, – в специнтернаты, рецидивистов – в колонии. Мне довелось работать здесь в 1931–1937 годах после окончания Музыкального педагогического техникума. У меня смолоду было три страсти – животный мир, шахматы и музыка. Я серьезно занимался пением и был высокого мнения о своей образованности: гармония, полифония, сольфеджио – не каждому дано! Но после случайной встречи с Рафаилом Павловичем Сперанским, работавшим в ЦКДРП, я неожиданно принял его предложение стать руководителем драмкружка. Проявив завидное легкомыслие (мне было 23 года!), я на следующий день принес нужные документы для оформления. Меня взяли кружководом и воспитателем в старшее отделение, где воспитанников было больше ста человек. Уборка помещений, доставка пищи, смена постель ного белья – все делали сами ребята.
|
|
Старшее отделение
Обычный день воспитателя длился 14 часов – с восьми утра до десяти вечера. Побудка, построение, зарядка, завтрак, обеды, ужин, проверка классов и мастерских, тихий час, разбор конфликтов, драк, ЧП. Бывало, к нам попадали очень трудные подростки. Они не хотели соблюдать режим, отказывались умываться, становиться в строй. У несгибаемых героев на все был ответ: “А мне что?!” И вот все отделение стоит и ждет, пока новичок куражится. Атмосфера накаляется. Наконец отправляю всех в столовую, а звену, куда зачислен бузотер, велю подождать, пока тот заправит койку. Упрямец слоняется по залу, у звена зреет возмущение: почему мы должны есть холодный завтрак из-за какого-то паршивца. Видя, что “противник” упорствует, удаляюсь. Через 10 минут является звеньевой и рапортует: “Вымылся и заправил койку”. Возвращаюсь в зал, герой понуро стоит в строю, как побитая собака. <…> Как-то вечером “воронки” привезли пойманных
беспризорников, человек восемьдесят. В приемнике они проходят санобработку, на ужин всегда в первый день дают дополнительный фунтик сахару – после голодной улицы это почти пиршество. Среди новеньких замечаю моего старого знакомого – Ушанкова, он из семьи, его замели по ошибке. Завтра он уйдет домой, но сегодня я договорился с ним, что, если мне ночью на дежурстве понадобится помощь, он незаметно исчезнет из спальни и позовет воспитателей. Возвращаться ему уже нельзя – шпана расправится с “доносчиком”. Ночь тянется долго, нервы напряжены, я вышагиваю по столовой, захожу в игровую, меня преследует ненавистный запах дезинсекции.
Около семи утра появляется разболтанный белесый парень, которого я заметил еще вечером, – он сквернословил, задирался. И сейчас он проходит молча в туалет, а возвращаясь, неожиданно направляется в спальню девочек. “Вернись”, – резко приказываю ему. “А вам что, жалко? Они все чухонные!” Я хватаю его за руку. Он, набычившись, мрачно смотрит на меня. Так мы и стоим до подъема. Заметив на построении, что двое парней выше меня ростом, отдаю Ушанкову ключ.
В строю начинается удалой пересвист. Свистят без рук, без пальцев и все равно свистят здорово. И вдруг белесый истошно кричит: “Бей все, ломай все!” – и бросается ко мне с ножом. Как он его пронес, ума не приложу. Фортуна со мной, я выбиваю нож табуреткой. Свист крепчает. Ушанков исчезает за дверью, а передо мной – восемьдесят злобных гопников. Вот оно, положение укротителя в клетке – они еще не решаются нарушить строй, но что им мешает расправиться со мной? Но вот уже шаги на лестнице. Я пишу направление белесому в СИВ и передаю его дворникам. Потом узнал, что он отказался обуться и всю дорогу по набережной Невы шел босиком по снегу, неся связанные шнурками ботинки перекинутыми через плечо. <…>
|

Духовой оркестр 9-го детского дома. 1932 год

Кировский проспект. 1934 год
|
|
|
|
 |
Личный опыт
Наталья Бехтерева
нейрофизиолог, руководитель Института мозга РАН – о своем пребывании в ЦКДРП
|
«Как странно работает человеческая память. Всякий раз, восстанавливая по крупицам трагические события 1937 года, я моментально вспоминаю, что именно в этом доме, расположенном неподалеку и от дачи Бехтеревых на Каменном острове, и от Института экспериментальной медицины, моего основного места работы, находился тот самый приемник-распределитель, в который мы с братом попали после ареста родителей. Ночью в спальнях стоял гул, потому что ребята под одеялами плакали. Громко плакать боялись. И все надеялись, что это ошибка и скоро все выяснится. Было очень страшно. Но, каждый день проходя мимо этого дома, я никогда об этом не вспоминаю, для меня его как-бы не существует, это просто больница, просто старинное здание в конце Каменноостровского проспекта». (Из телеинтервью программе «Пятое колесо».)
У девочек
У меня были нелады с нашим завучем, и, придя однажды на работу, я обнаружил, что уже не работаю в старшем отделении, а переведен в
приемник якобы для укрепления дисциплины. Да еще оказался в группе трудновоспитуемых и умственно отсталых девочек – самая скверная комбинация. Прощай, мои драматический, шахматный и юннатский кружки в старшем отделении, которыми я так гордился. Смысла работы я больше не видел, мои воспитанницы – тупые и убогие – оживлялись только во время еды. В мастерских они не работали, безграмотные,
обычно пассивные, но легко возбудимые, они иногда впадали чисто в звериную ярость. Постоянных враждебных группировок не было, но
вспышки соперничества и зависти портили всем жизнь. Моим спасением стало старое облезлое пианино. Как выяснилось, они любили слушать
музыку – не Бетховена и не Чайковского, конечно, но любили маршировать и танцевать. Вечерами я сочинял им короткие истории, со всякими приключениями и благополучными развязками. Слушали они охотно, но все равно наше существование было довольно жалким. <…> В том году в спальнях не хватало коек, и иногда приходилось двум девочкам укладываться на одну кровать. Как-то вечером на одной кровати вспыхнула потасовка: Маня Шевчук стаскивала с койки свою соседку. Маня не считалась УО, но временами впадала в дикую ярость, уговаривать ее было бессмысленно. Когда я приказал ей прекратить истерику, она закусила удила и выскочила на лестницу. Идти за ней, тащить силой? Но ей того и надо. Будет цепляться за перила, реветь и кусаться. “Сама придет”, – решил я и сел заполнять журнал. Через 15 минут появляется Маня в сопровождении мужчины, который жил в нашем дворе в соседнем здании. Звания его я не знал, но знал, что большой начальник. Повелительным резким тоном он стал мне выговаривать: “Не имеете права выгонять ребенка на холодную лестницу и разбивать ей руки до крови.
Вы за это ответите!” Оказывается, Маня еще и руки расцарапала. “Вы сами не знаете, что говорите”, – возмутился я. Но он не унимался. “Сейчас начнется, – подумал я, – девицы мои – это взрывчатая смесь. Чуть перегни палку, и хоть пожарных вызывай”. “Гражданин, – возвысил я голос, – предлагаю вам удалиться. Я готов с вами говорить, но не здесь”. – “Нет, здесь и сейчас, в присутствии детей”. – “Убирайтесь вон или я спущу вас с лестницы!” – неожиданно для себя заорал я. Мой противник в бешенстве с дробным стуком сапог скатился вниз, посылая мне гневные угрозы. У нас стало тихо-тихо. Ночная воспитательница дрожащими руками заперла дверь. Маня, из-за
которой разгорелся сыр-бор, подошла с извинениями, но я лишь посоветовал немедленно лечь спать. Наутро я узнал, что отстранен от работы и что дело будет разбирать комиссия гороно. На второй вечер она вместе с жалобщиком и администрацией нагрянула в приемник. Девочки уже легли. Дежурила ночная воспитательница, но заменявший меня педагог еще не ушел и потом поведал мне подробности визита. “Ну как, девочки, живете?” – спросил завуч. Никто не ответил. “Вы не бойтесь, говорите начистоту, какие у вас жалобы”, – предложил председатель комиссии. “А начистоту – даешь Андрея Михайловича. Куда вы его дели? Этот тип все врет!” – “Что же ты такая невежа?” – “Зато свежа!” – “Тишина!” – прикрикнул завуч, но было поздно. “А на …” – крикнули в углу, и последовало непечатное слово. Главной
в атаке воспитанниц оказалась Тамара Петухова, здоровая 16-летняя девица, вот уж не знал, что она будет моей спасительницей. Растерявшаяся комиссия пыталась “взять на голос”, но в ответ понеслась такая площадная брань, что они смешались. А три девицы, почувствовав слабину, недолго думая, вскочили на стол и стали кривляясь отплясывать какой-то канкан. Стало ясно, что добром дело не кончится. “Надо уходить, – шепнул воспитатель, – сейчас табуретки полетят”. Только когда за проверяющими щелкнул замок запираемой двери, они обрели дар речи. “И он здесь работал? И они его слушались? Пусть завтра же выходит”. Девицы встретили меня восторженно, но
из приемника я вскоре ушел».
|