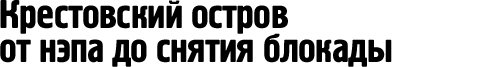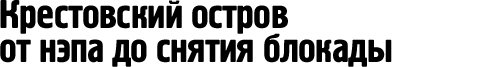|
 |
| Вид на Среднюю Невку у Елагина моста. 1920-е гг. |
Воспоминания Софьи Николаевны Цендровской (1918–1993) были впервые опубликованы во втором выпуске «Невского архива» в 1995 году. Родившаяся в ярославской деревне, она в 1923 году с родителями переехала Петроград и поселилась на Крестовском, где прожила до 1940 года. В то время это была беднейшая часть города, одна из его тихих и захолустных зеленых окраин, фактически деревня с козами, огородами, курами, лошадьми, однако располагающаяся в получасе ходьбы от проспектов Петроградской стороны. Тут, на отшибе, «вдали от шума городского», селились те, кто не хотел привлекать внимания строителей новой жизни: мелкие кустари, частные возчики, представители наций, столицы которых в газетах проходили как центры вражеских разведок, те из интеллигенции, кто надеялся жить, никому не мешая «в провинции, у моря», и прочая «мещанская мелкота» – безбилетные пассажиры в экспрессе города трех революций. Тут праздновали Рождество, наряжая елку, читали Зощенко и «Княжну Джаваху», копались в огородах и пили чай из самовара на берегу залива. Они были бедны, незаметны, незначительны; жизнь огромной страны грохотала где-то рядом, до поры до времени не затрагивая их, – но они были, это был их остров и их – тоже – город.
«…В начале 1924 года родители нашли отдельную двухкомнатную квартиру на Крестовском острове, в старом частном деревянном доме №5. Остров представлял тогда огромную деревню. Было всего несколько высоких каменных домов, которые стоят и нынче. Остальные были деревянные, в большинстве своем ветхие, с палисадниками, огородами, курятниками, сараями для дров и хлевами. У многих были коровы, поросята, куры, голубятни и даже лошади. Улицы, замощенные булыжником, заросли одуванчиками, лопухами, подорожниками. Тротуары были только на Петроградской улице и Константиновском проспекте, и то деревянные. Не было водопровода, электричества и трамвая. Трамвай ходил в нашу сторону только до Барочной улицы, а от нее на остров шли пешком.
Кроме сохранившихся до настоящего времени улиц на Крестовском было множество маленьких улочек – Владимирская, Сергиевская, Павловская, Мезенская, Андреевская, Мариинская, Онежская, Опекунская. Теперь их не существует: много деревянных домов снесли, когда в конце 1920-х годов вдоль всего Морского проспекта начали строить большие жилые корпуса, а в конце Кемской улицы – двухэтажные бараки для сезонных рабочих, нанятых на земляные работы по возведению стадиона. Осенью 1942 года все к тому времени уцелевшие деревянные дома были разобраны на дрова. <…>
 |
| Западная часть острова до 1926 г. В послереволюционное лихолетье Крестьянский лес, располагавшийся на месте нынешнего Приморского парка Победы, жители острова подчистую вырубили на дрова |
На острове было много огородов, отгороженных друг от друга полусгнившими заборами. Наш первый огород был на Николаевской улице. Когда в конце 1920-х годов на этом месте стали строить жилые корпуса, нам дали участок там, где теперь стадион “Динамо”. Когда стали строить стадион, мы получили участок вблизи Б. Петровского моста, за речкой Чухонкой. Это было примерно в километре от нашего дома. <…> Тот огород был у нас до самой войны. <…> В нашем доме было два этажа, на каждом по три квартиры. Возле двери в нашу квартиру была узенькая лестница на чердак. На площадке стояли бочки с квашеной капустой, и у каждой квартиры было по маленькой кладовочке. Они заменяли холодильники, о которых в те времена и понятия не имели. Лестница на второй этаж была деревянная, скрипучая. Сидя дома, мы слышали, как поднимаются по ней, и по шагам точно определяли, кто идет.
Долго мы жили без самых элементарных удобств – не было ни канализации, ни водопровода, ни электричества, они появились только после 1931 года. За водой мы ходили на Среднюю Невку. Там на берегу против большого каменного дома №6, в котором теперь молочный магазин, была водокачка, маленькая деревянная избушка. Из нее через окошко выходила водопроводная труба, тут же сидел сторож и за плату отпускал нам воду, по одной или по полкопейки за ведро. У кого была бочка и тачка, тем было легче, а мы носили ведра с водой на коромысле. На Среднюю Невку ко Второму Елагину мосту ходили зимой полоскать белье в проруби, а летом полоскали с деревянных мосточков или лодок, привязанных веревками к колышкам. После того как водокачка сгорела, стали проводить водопровод. Сначала ставили колонки во дворах, но не во всех, и соседи через улицу ходили в наш двор за водой. А потом уже провели воду в квартиры. До этого у нас в кухне висел рукомойник.
Потом стали проводить электричество. Пошел трамвай. Сначала была одна колея от 2-го Елагина моста до Барочной с разъездом на углу Петроградской улицы и Константиновского проспекта. Мост через Малую Невку был узкий, ветхий, деревянный. Сразу же после войны его снесли и построили новый широкий железобетонный. Пока его строили, трамваи ходили через специально построенный временный деревянный мост у завода “Вулкан”. Таким этот временный мост – без проезжей части – и остался до сих пор.
Самый первый трамвай, который к нам ходил, – №35, а потом №12 и 22. В 1933–1934 годах я ездила на 35-м до Театральной площади на 1-й курс педтехникума имени Некрасова (Мойка, 108), а остальные годы учебы ездила на 22-м на Звенигородскую улицу. <…> До войны вся территория теперешнего Приморского парка Победы представляла собой болотистое, с кочками, пастбище, где паслись коровы и козы. Несколько ив, кустарники ольхи, в основном у воды. Купались мы на Чухонке и в заливе. Дно песчаное, чистое, очень мелко у берега. В теплое лето вода хорошо прогревалась. Разводили костер, пекли картошку, бегали, загорали, пропадали там целыми днями.
|
|
Взрослых не было, только пастух со стадом коров. По выходным дням на взморье ходили семьями, с гостями. Брали с собой самовар, еду и проводили там целый день. В Средней Невке тонуло много людей. Никаких пляжей и специальных купален, никакой речной милиции не было. <…> В конце набережной Средней Невки (теперь наб. Мартынова) был яхт клуб. Мы туда бегали к гигантским шагам, «гиганкам», как мы их называли. <…> Всех жителей острова, и детей и взрослых, лечил один врач – Утевский. Как только кто заболевал серьезно, посыла ли за Утевским. Жил он на Морском проспекте. Безотказный был доктор и лечил всех хорошо. В 1926 году я, тогда первоклассница, заболела воспалением легких. Вылечил меня доктор Утевский.
Умер он в 1942 году, похоронен на Серафимовском кладбище, недалеко от могил моих родителей. <…> Весной в городе продавали много корюшки, крупной, свежей, прямо из Невы. Мы не покупали ее в магазине, а ходили на тоню. Тоня находилась за дворцом князей Белосельских Белозерских на берегу Малой Невки. Мы стояли с папой на мостках, ждали, когда вытянут сети, и покупали живую. Еще в 1950-х годах рыбаки продавали рыбу на берегу в Белосельском парке.
Во дворец кн. Белосельских во время войны попал снаряд, дворец горел. После войны его разобрали и разбили на этом месте цветник, а справа детский городок. Жаль, поторопились, после войны и не такие строения восстанавливали. В этом дворце я вела группу ликбеза в 1935–1936 годах, куда ходили рабочие ЦПКиО им. Кирова. <…> С рабочими завода (“Вулкан”) мы ходили на демонстрацию. Раньше был такой порядок: каждая школа шла со своими шефами и выстраивалась впереди взрослых. Шли мы в пионерской форме – синяя сатиновая юбка и блуза с тоненьким кожаным ремешком. Утром строились у здания школы – каждый класс со своим учителем – и шли через Крестовский мост по Колтовской набережной (теперь наб. Лазарева). Грязища там была вечно жуткая. Потом становились впереди заводской колонны и шли вдоль всей Пионерской улицы до Большого проспекта и на Дворцовую площадь (тогда пл. Урицкого). С демонстрации возвращались часа в четыре дня усталые. Помню, по городу идем в тапках или туфлях, а как перейдем Крестовский мост, так разуваемся и по своей “деревне” идем босиком.
 |
| Пассажиры в ожидании трамвая. Конка, а затем трамвай на протяжении последних ста лет были
единственным видом транспорта, связывавшим остров с материком – Петроградской стороной |
<…> В 1930 году, когда мы подросли, мама пошла работать в оранжерею, которая находилась в Белосельском парке. <…> Когда начали создавать ЦПКиО, оранжерея, в которой работала мама, вошла в состав парка, и в ней стали выращивать цветы для Елагина острова. Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова открыли 5 августа 1932 года.
Когда началась война, в Ленинграде остались мама, папа и сестра Нина. <…> Эвакуироваться мои родные сначала не хотели, а потом – очень скоро – это стало невозможно. В январе мама писала мне (в Архангельск, куда С. Н. Цендровская уехала к месту службы мужа в 1940 году. – Ред.): “Обстрелы каждый день. Бьет из дальнобойных по разным частям города. Наши деревянные дома так и прыгают, но страшнее голод. Мы голодаем уже четыре месяца. Я стала скелет, обтянутый кожей. Паек смертельный. Люди валятся как мухи, вымирают целыми семьями. На улицах везде валяются мертвые. Идет человек и падает, и все проходят мимо, никакого внимания. Вечером ходить опасно, потому что много случаев – режут людей и берут мягкие части для того, чтобы не умереть с голоду”.
Потом, все военные годы, маму выручал огород, но как раз в 1941 году он был меньше обычного, так что картошка кончилась уже в ноябре. Папа был на казарменном положении, домой приходил редко. От всех ужасов мама с Ниной спасалась вязанием. Когда немного остывала плита, они садились на нее и вязали, вязали. От той зимы сохранилось одеяло замечательной красоты. <…>
С лета 1942 года на Крестовском пошли разговоры о сносе всех деревянных домов. Из тридцати человек, живших до войны в нашем доме, кроме мамы, не осталось к тому времени никого: кто умер, кто уехал, кого выслали (на Крестовском до войны жило много немцев и финнов – например Тойво Хайми, ставший позднее главным режиссером финского театра в Петрозаводске. – Ред.). В опустевшем доме маму обокрали – унесли деньги, документы, облигации, крупу. В начале октября она получила комнату на Петроградской стороне.
Вещи с Крестовского возила на тележке целую неделю; часть бросила и сожгла, потому что не хватило сил. Во время войны мама продолжала работать в парке, только выращивала уже не цветы, а овощи – в оранжереях и на огородах. Масляный луг был весь засажен – половина картошкой, половина капустой. Овощи сдавали в рабочую столовую. С мая месяца до осени, пока не уберут овощи, приходилось работать без выходных, с утра до вечера, а потом еще на своем огороде. До дому добиралась поздно, еле живая, но овощей теперь хватало на всю зиму, даже немного меняла на хлеб. Зимой было легче – меньше работы, но приходилось ломать деревянные дома, чтобы топить оранжереи. <…>
Последний мамин огород был на углу Крестовского и Белосельского проспектов. В 1945 году эта территория отошла к Приморскому парку Победы, и следующей весной мы копали уже на новом месте – около оранжереи в Белосельском парке, где теперь стоит новый корпус Крестовской больницы. Это был наш последний огород. Теперь Крестовский остров – запущенная окраина Ленинграда. Когда я бываю на острове, меня охватывает тоска, поэтому я не часто туда езжу. На месте нашего дома осталась одна черемуха. Вот к ней-то я теперь и хожу, постою возле нее и вспомню прежний остров, нашу жизнь, все детство босоногое, а бывали времена – и голодное».
 |
| Строительство жилмассива между Константиновским и Морским проспектами. 1932 г. «Жертвой»
строительства пала громадная березовая роща, о которой не раз сожалели жители острова |
|