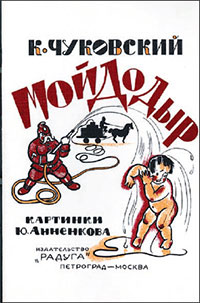|
Сегодня книги в Гостином дворе можно найти только на Перинной линии, в отделе «Союза», который занимает такое же эгалитарное место, как, скажем, отделы часов, ковров или тканей. В XIX же веке Гостиный был центром петербургской книготорговли, своеобразным Домом, точнее, Двором книги: здесь располагались известнейшие книжные лавки по совместительству издательства и литературные
клубы. К Глазуновым, Сленину, Панькову, Исакову, Свешникову, Вольфу и другим знаменитым книготорговцам заходили за модным альманахом, свежим романом, антикварным французским изданием, а то и закупали оптом усадебную библиотеку для интерьера. В мае 1790 года купец Герасим Зотов продал первые двадцать пять экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву», чем вызвал сильное недовольство властей. Автор Александр Радищев был отправлен в Сибирь на десять лет, а Зотова гостинодворские купцы «отмаливали» всем миром.
Купцы Глазуновы
 |
| Илья Глазунов. Гравюра 1877 г. |
Когда в 1783 году московский книготорговец Матвей Петрович Глазунов (1757-1830) решил распространить
свое дело на Петербург, он немало рисковал. В то время спрос на книги был невелик, купечество не читало вообще, аристократия - лишь иностранные издания, тиражи были ничтожны, типографии - только казенные (Сенатская, Морская, Академии наук). Книготорговцы - просветители и меценаты - сами должны были книги издавать, закупать, изучать покупательский спрос и пополнять ассортимент своих лавок. После 1802 года, когда Александр I разрешил "вольные" типографии, книг на русском языке стали издавать гораздо больше, а с превращением писательского ремесла в "продажное" роль посредника - издателя и книготорговца - решительно
возросла. В 1803 году Глазунов обзаводится собственной типографией и утверждается в самом престижном месте Гостиного двора - в лавке №15 у центральных ворот по Суконной линии (ныне Невская). Конкурентов хватало и справа и слева (в начале XIX века в Гостином было уже пятнадцать книжных лавок, наиболее известные - Исакова, Полежаева, Сленина), но и число читателей значительно увеличилось. Братья Глазуновы издавали книги по истории, праву, географии, сельскому хозяйству. После либеральных реформ Александра, наблюдая спрос на сборники указов и законов, подготовили капитальный труд "Памятник законов".
Император, которому "Памятник" был преподнесен министром юстиции, повелел наградить Глазуновых золотой медалью с надписью "За полезное". Продавалась у Глазуновых и художественная литература - "Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе" (1821-1824) представляло самых именитых тогда писателей: Ломоносова, Державина, Княжнина, Фонвизина, Крылова, Карамзина. Время "солнца русской поэзии" пришло чуть позднее. Однажды приказчик магазина Василий Поляков показал поэту лондонское миниатюрное издание сочинений Шекспира и посоветовал выпустить в таком же виде собственное. Пушкин согласился и осенью 1836 года сам держал корректуру миниатюрного "Евгения Онегина". Издание так ему нравилось, что
"он каждый день заводил кого)либо из своих знакомых к Глазуновым". После гибели поэта весь тираж "Онегина" в пять тысяч экземпляров был распродан за неделю, повторный - в течение года.
Впоследствии Глазуновы издали три из восьми томов посмертного собрания, отредактированного друзьями поэта - Жуковским, Вяземским, Плетневым. Глазуновы обладали "хрестоматийным" литературным вкусом: первыми издали "Героя нашего времени" Лермонтова, а затем и его Полное собрание сочинений, в 1860- приобрели права на издания Гончарова и Тургенева. Современная "Школа классики" (издательство "АСТ") - дешевая коричневая серия "для ученика и учителя", включающая произведения "по программе", сопровождаемые биографией классиков и статьями "по теме", - повторяет идею "Доступной библиотеки" Глазуновых, выпущенной в конце XIX века. Ее книжки стоили 10-15 копеек и, несмотря на то что там не было "тезисных планов сочинений", пользовались стабильным спросом. Все 135 лет существования фирмы, вплоть до национализации в 1918 году, ею управляла одна династия: от братьев Ивана и Матвея дело перешло к их детям, а затем к их внукам. Все эти годы оно оставалось семейным предприятием, обходясь без привлечения акционерного капитала, - редчайший случай в России.
Универсальная книжная
торговля М. О. Вольфа
Поляк Маврикий Вольф (1825-1883) появился в Гостином дворе в 1848 году. Сначала поступил приказчиком в
универсальный магазин иностранных книг Якова Исакова, считавшийся лучшим в Петербурге. Опыт работы в
книжных магазинах Лейпцига и Парижа дал себя знать, и скоро Вольф смог открыть собственное дело. "1 октября
1853 года, - вспоминал сотрудник Вольфа, писатель С. Либрович, - среди невзрачных тогда лавочек Гостиного
двора в центре Суконной линии открылся магазин, устроенный на западный манер: с большими окнами, витринами, изящным входом, приличной обстановкой. Вывеска на русском и французском гласила: "Универсальная книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа"". Дело быстро пошло в гору.
|
|
После смерти Николая I и крестьянской реформы общество охватил демократический подъем, который можно сравнить с горбачевской перестройкой, - цензура ослабла, появилась возможность издавать то, о чем раньше и подумать было нельзя, открывались новые магазины, библиотеки, типографии, увеличился выпуск журналов и газет. Вольф торговал и отечественной, и зарубежной литературой, издавал все, на что чуял спрос. Возрос интерес к естественным наукам - приобретайте "Учение о происхождении видов" Дарвина или "Историю свечи" Фарадея, увеличилось число землевладельцев - пожалуйте четыре серии по двадцать томов "Карманной хозяйственной библиотеки", не хватает на рынке детской литературы - вольфовская подарочная "Библиотека юного читателя" включала все лучшее из написанного для детей: сказки Андерсена и Перро, повести Вальтера Скотта и Жюля Верна, Фенимора Купера и Виктора Гюго. Не забывал Вольф и об отечественных детских авторах - невероятными подвигами грузинской княжны Нины Джавахи, героини Лидии Чарской, подростки зачитывались еще в 30-е годы ХХ века. Вольф одним из первых стал выпускать дорогие, богато иллюстрированные книги с тисненными золотом переплетами: "Картинные галереи Европы", "Фауст" Гёте, "Божественная комедия" Данте с иллюстрациями Гюстава Доре. До 1917 года трудно было отыскать интеллигентный дом в Москве или в Петербурге, да даже в губернском захолустье, где не стояли бы на полках опрятные вольфовские томики в коленкоровых переплетах. Лесков, лично знавший издателя, острил: "Маврикий - единственный царь русской книги, его армия разбросана от Якутска до Варшавы, от Риги до Ташкента, в его руках судьба литературы". И если обычно купцы занимали по одной лавкеячейке Гостиного двора, то вольфовскими шкафами с книгами были заставлены все пять. В Петербурге не зря шутили: "В Публичную пойдешь - не найдешь, к Вольфу заглянешь - достанешь". До 1917 года, до национализации, дело Вольфа существовало как паевое товарищество, образованное его сыновьями Александром, Евгением и Людвигом.
Издательство "Радуга"
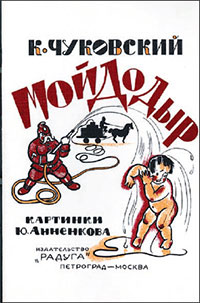 |
|
После революции в Гостином дворе помещалось множество контор, среди которых было и несколько издательств: "Начатки знаний", "Брокгауз и Ефрон" - им, кстати, руководил будущий автор "Занимательной географии" и "Занимательной геометрии" Яков Перельман. Здесь же была контора "Радуги" - первого специализированного детского издательства, книги которого до сих пор остаются едва ли не лучшей частью отечественной детской литературы.
Корней Чуковский вспоминал: "В 1921 году я сочинил две сказки: "Мойдодыри""Тараканище". Издавать их было негде. Я обратился к журналисту Льву Клячко с предложением основать детское издательство. Клячко, мой старый товарищ по газетной работе, человек энергичный и пылкий, увлекся этим делом и очень быстро напечатал эти книжки и ряд других". В этом "ряду" оказались все знаменитые сказки Чуковского, Маршака, Шварца, рассказы Житкова, Бианки и Катаева. За восемь лет существования, с 1922-го по 1930 год "Радуга" выпустила около четырехсот книг, почти все с замечательными иллюстрациями. Главным художником был Владимир Лебедев, с "Радугой" сотрудничали Добужинский, Кустодиев, Петров-Водкин, Анненков, Конашевич и др. Порой творческие тандемы писатель-художник и давали импульс новым замыслам. В 1924 году, гуляя по Петроградской стороне, Чуковский и Добужинский придумали Бармалея. Чуковский вспоминал: "Почему у улицы Бармалеева такое название? Кто был этот Бромлей-Бармалей - любовник Екатерины, генерал, вельможа? - Нет, - уверенно ответил Добужинский. - Это был разбойник, знаменитый пират. Вот напишите о нем сказку. Он был в треуголке, с такими усищами. - И, вынув из кармана альбомчик, Добужинский нарисовал Бармалея. Вернувшись домой, я сочинил сказку, а Добужинский украсил ее своими прелестными рисунками… Вместо того чтобы делать рисунки к уже готовому тексту, Мстислав сначала рисовал, я потом писал стихи к его рисункам". Сейчас трудно представить, какой травле подвергались в те годы эти замечательные книжки - со стороны "кремлевских жен", ведавших педагогикой, "пролетарских" критиков, Государственнго ученого совета. "Самого резкого осуждения заслуживают и текст, и рисунки "Мойдодыра" (рисунки Юрия Анненкова. - Ред.). Сравнение трубочиста с поросенком - это сравнение чистоплотного буржуа, чистоту свою покупающего руками трубочиста. Интересно, как бы выглядел сам Чуковский, если бы он чистил дымоходы!
Когда происходит объединение трубочистов, стрелочников, рабочих всех категорий в единую трудовую семью, авторы забивают детям головы, что трубочист хуже поросенка, ему стыд и срам, стыд и срам". Сейчас, когда перелистываешь эти издания, кажется, что веселые авторы, изобразившие себя на последней странице,
срамят совсем не неряху. В 1925 году на Всемирной художественно-декоративной выставке в Париже книги "Радуги" были отмечены медалью. В 1930'м издательство было закрыто как несостоятельный должник.
 |
| Корней Чуковский и Юрий Анненков. Иллюстрация из книжки «Мойдодыр». Издательство «Радуга», 1923 г. |
|