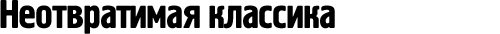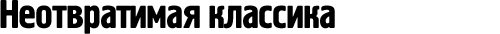|
 |
| К.Кольман. Церковь Священномученика Мирония при лейб-гвардии Егерском полку. Акварель. 1855 г. |
Как ни стремись в нашем городе к русскости, все равно в классицизм упрешься. Семеновский квартал - одно из лучших тому свидетельств. По бокам его окаймляют ряды несколько скучноватых классицистских казарм Семеновского и Егерского полков, они задают фрунт Звенигородской и Рузовской улицам. Со стороны Введенского канала к кварталу по диагонали примыкает корпус бывшего женского отделения Обуховской больницы (1836-1839, архитектор Петр Плавов). Это достойнейшее здание, с большим метром, превосходно прорисованными трехчастными окнами и карнизами, отточенным порталом входа, со строгим, чуть жестковатым венчанием. Внутри - абсолютный шедевр: лестница под угловой башней, высокая ротонда с расставленными на ярусах по кругу дорическими колоннами и пологим пандусом для подъема больных. На редкость функционально, светоносно и исключительно благородно. Здесь возникает ощущение храма - дворцового зала. Зайдите как-нибудь, увидев угловую дверь открытой, не пожалеете.
В свое время был и классицистски строгий вокзал, второй (1849-1852), сменивший первоначальный деревянный, его строили по проекту Тона. И именно Константину Тону принадлежит несколько странная заслуга тотальной русификации этого квартала. До 1930-х годов над этим районом доминировали неорусские церкви. С одного края, на Загородном проспекте, полковой храм семеновцев - церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы, а на берегу Обводного канала - егерский, церковь Святого Мирония. Оба были примечательными примерами русско-византийского стиля. Как известно, поворотной точкой (1830 год) в развитии русской храмовой архитектуры стала церковь Святой Екатерины в Коломне, стоявшая на месте теперь уже бывшего кинотеатра "Москва". И поворот этот совершил сам Николай I, не удовлетворившийся представленными проектами и произнесший знаменитую фразу: "Что это все хотят строить в римском стиле? У нас в Москве есть много прекрасных зданий совершенно в русском вкусе". Тут-то Константин Тон и представил с подачи Оленина проект в духе русского XVII века, а после все и поехало. Церковь Введения была построена в 1836-1842 годах, а Мирониевская - в1851-1855-м. Сегодня довольно сложно представить себе тот русифицированный Петербург, то количество неорусских церквей, которые к 1930-м годам заполонили город. И привела к их исчезновению не только советская власть, но и мирискусническая мифология классического Петербурга. В центре остался лишь Спас-накрови, поздний и превосходящий даже Фаберже в избыточно искусной изобретательности. (Он спасает нас от отсутствия в Санкт-Петербурге яиц Фаберже, такая красота и Вексельбергу не снилась.)
|
|
Снесенные тоновские церкви сложно назвать шедеврами. Они представляли собой маловдохновенные вариации на тему старой русской архитектуры. Введенская церковь - пятикупольная с закомарами, у Мирониевской не только колокольня была шатровой, но и сами главы. Мирониевскую жаль даже больше, она была бы эффектной доминантой на пустоватом берегу Обводного канала, а церковь Введения кажется все же чересчур грузной. Не без резона Герцен называл все эти церкви "пятиглавыми судками с луковицами вместо пробок на индо-византийский манер". Но это абстрактные размышления, церквей жаль, они обогащали ландшафт. Представить петербургского Тона и его первую Екатерининскую церковь теперь можно лишь в Угличе, где есть позднее авторское повторение этой постройки. Характерно, что Тон проектировал "древнерусскую архитектуру", ее практически не зная, изучение и археологическая точность пришли позднее. А в 30-40-е годы XIX века архитектор-классик переучивается по указу государя и пытается лишь представить Русь. И хотя Тон и считается отцом официального русского стиля (храм Христа Спасителя!), но "родители" последнего - прежде всего время и николаевская идеология. Недаром уже во второй половине 1820-х годов Василий Стасов строит русскую церковь Александра Невского в Потсдаме и Десятинную в Киеве.
 |
| Гулянье во время Пасхальной недели на Семеновском плацу. 1890.е гг. |
Однако как ни крути, а была здесь Россия, и не стало. Остался классицизм. И не только станция метро "Пушкинская" (1955, группа архитекторов, включая В. Петрова и А. Грушке) к нему опять возвращает. Она, впрочем, безупречно прочерчена, напоминает постройки великого немецкого архитектора Шинкеля в Берлине 1830-х годов, не говоря о том, что под землей она - классицистский парадиз, воплощенная мечта принца Чарльза как подарок на его восьмилетие и предопределение его судьбы. Но есть еще и целый комплекс между Подъездным переулком и Пионерской площадью: здания 1-го железнодорожного батальона, 1-й автомобильной роты и Военно(автомобильной школы, все они построены малоизвестным Иваном Балбашевским (частично
вместе с П. Миклашевским, Г. Бартошевичем и А. Энгельке). Это порядочная неоклассика начала 1910(х годов, холодная, но качественная. А корпус, выходящий на Пионерскую площадь, выглядит как забытый дворец XIX века. В детстве мне казалось, что он случайно пропущен в путеводителях. Более благородной казармы или офицерского собрания представить себе нельзя: купол с башенкой, скругления по углам, отменного строя ионические колонны, ясные объемы, маски над окнами, как рыцарские забрала. Сделать классическим и Театр юных зрителей архитектору Александру Жуку не позволило время (1955). Но и без того ясно, что ленинградских детей, приходивших на Пионерскую площадь, воспитывала не утраченная русскость, а сохранившаяся английская палладианская вилла.
 |
| В.С. Садовников. Парад Семеновского полка перед Введенским собором. 1842 г. |
|