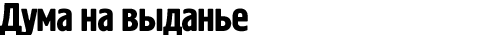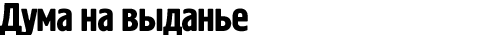|
 |
| И. Репин. На Невском. 1887 г. |
Башня Думы, портик Руски и Серебряные ряды - кажется, облик этих фигур, как и их комбинация на доске, не меняется двести лет. Это так и не так: тут много кто еще "ходил" и был "съеден". Башня сначала напоминала не ферзя, а ладью: была плоской и на ярус ниже. Архитектор Феррари построил петербургскую ратушу на манер отечественных итальянских. Архивные фотографии расскажут, как изобретательно башню маскировали по разным торжественным поводам. К двухсотлетию Петербурга лестница превратилась в нос корабля, где пьедестал из сподвижников гордо попирал Петр (как Екатерина перед Александринским театром). В 1913-м, к трехсотлетию дома Романовых, под царским балдахином поместили изображение иконы со сценой помазания Михаила Федоровича на престол. В дни пребывания в России французского президента Лубе (1902), гаранта русско-французского альянса, здесь вознеслась аллегорическая фигура Мира, а в первую годовщину революции толстяка-буржуя, склонившегося над золотом, поражали громы и молнии. Впрочем, гораздо больший агитационный эффект на фотографии 1918 года производят заколоченные витрины, остановившиеся часы и вымерший Невский (см. с. 272). Ну, с часами проблемы в советское время возникали постоянно, а разнобой стрелок на циферблатах многие помнят лично. На майские и октябрьские праздники каланча утопала в кумаче, а в перестроечные времена портреты Ленина сменила реклама. Перед портиком Руски тоже чего только не стояло. Сам портик архитектор Руска пристроил к Перинным рядам в 1806 году. В 1963-м и то, и другое снесли (метро строили), а впоследствии восстановили: сначала портик (1972), а через тридцать лет пристроили новые ряды (2004). В 1860 году перед портиком появилась часовня Христа Спасителя (см. с. 270). Она была очень посещаемой, но ее русские кокошники диссонировали с классицистским окружением, и в 1929
году часовню убрали. После революции у Думы поставили памятник немецкому социалисту Лассалю – сначала гипсовый (1918), затем гранитный (1923), но в 1937-м бюст перенесли в Музей городской скульптуры. К столетию Ленина на бойком месте установили электрифицированную карту Октябрьского восстания (за ломаные очертания горожане прозвали ее «гнилым зубом») – и та простояла недолго. В 1990-е годы здесь хотели поставить то памятник Гоголю, то Шостаковичу, то подаренную японскую звонницу с колоколом (ту, что сейчас на Крестовском острове). В общем, даже удивительно, что место до сих пор пусто. Но и хорошо: пафоса меньше.
 |
| Здание городской Думы, украшенное в честь приезда президента Франции Эмиля Лубе. 1902 г. |
|
|
Оптический телеграф
В 1824 году на плоской площадке, которой заканчивалась башня, надстроили обсервационную будку и установили специальное механическое устройство - мачту, на вершине которой крепилось горизонтальное деревянное крыло с парой подвижных закрылков на концах. Изменяя положение этих четырех элементов, можно было составить множество фигур. Они обозначали как буквы, так и коды, топонимические термины и целые фразы. Сообщение передавалось следующим образом: дежурный на башне Думы в подзорную трубу разглядывал сигнал, подаваемый с крыши Зимнего дворца (обсервационная будка сохранилась и там, на стороне, выходящей к Адмиралтейству), устанавливал при помощи миниатюрного привода на своей мачте такую же фигуру, которую "считывали" уже со следующей вышки (на крыше Технологического института, например), а далее код передавался по цепочке. Разработку французского экс-священника Шаппа (1793) на ура приняла наполеоновская Франция, когда воевала с Европой на всех фронтах. Телеграфисты передавали донесения о передвижениях войск гораздо оперативнее и эффективнее курьеров, постоянно попадавших в плен. Первая линия соединила Париж с Лиллем, а к 1840 году вся Франция была покрыта семафорными вышками. В России первую линию проложили в Шлиссельбург, по ней передавались распоряжения относительно навигации на Неве и Ладожском озере. Через десять лет Зимний дворец связали с Ораниенбаумом, Царским Селом и Гатчиной. К 1839 году поставили рекорд, достойный книги Гиннесса: самая длинная линия (1400 километров и 149 промежуточных станций) дотянулась до непокорной Варшавы. В хорошую погоду сообщение доходило туда за пятнадцать минут. Но в туман, дождь или, наоборот, при ярком солнце оптический телеграф не работал, поэтому с 1852 года его вытеснил электрический.
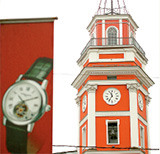 |
|
Куранты
Лишь резерв прочности и точности, заложенный в механизм знаменитым часовым мастером Фридрихом Винтером, позволил думским курантам пережить лихолетье и многочисленные реставрации. Механические уличные часы в городе нынче можно по пальцам пересчитать: например, на Зимнем и Мраморном дворцах, на Петропавловском и на Спасо-Преображенском соборах. Большинство же часов время не измеряют, а только его показывают, получая электрический сигнал от "первичных" часов. Из винтеровских механизмов на ходу два - на Думе и на Московском вокзале. В 1883 году, когда старые куранты на башне вышли из строя, городская управа заключила с часовщиком договор, согласно которому он был бы оштрафован, начни часы отставать больше чем на 2 минуты в месяц. Сейчас часы идут с отклонением хода лишь на 30 секунд в неделю. Их заводят вручную - 760 оборотов, поднимая на бой и ход часов три гири.
 |
| Световая карта вооруженного восстания 24–25 октября 1917 г. Апрель 1970 г. |
Каланча
Ажурная металлическая конструкция на крыше осталась с тех времен, когда башня "подрабатывала" по совместительству еще и пожарной каланчой. Пожарный телеграф также использовал семафорную азбуку, но она состояла из досок, флагов и шаров разного цвета, которые ночью заменялись фонарями. Каждый район имел специальную кодировку. Заметив дым, дежурный сообщал, в каком месте горит и сколько команд должно выехать на тушение. Красный флаг сзывал команды со всех пожарных частей, светло-зеленый давал сигнал только командам данного района. Два красных фонаря и белый между ними означали сбор всех приставов к обер-полицмейстеру. Хотя лучше эту технику описал, кажется, Маршак:
"На площади базарной,
на каланче пожарной
Круглые сутки дозорный у будки
поглядывал вокруг -
на север, на юг,
на запад, на восток,
не виден ли дымок.
И если видел он пожар,
плывущий дым угарный,
он поднимал сигнальный шар
над каланчой пожарной.
И два шара, и три шара
взвивалось вверх, бывало.
И вот с пожарного двора
команда выезжала".
Хотя сейчас смысла в "короне" нет, представить башню Думы "обезглавленной" - без деревянной будки и сигнальной вышки - было бы странно. Анна Петрова
|