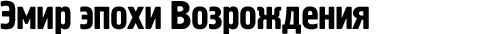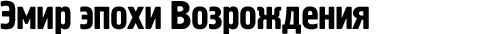|
 |
| Вид на айван (террасу) дома эмира |
Петербург словно создан для съемок костюмных фильмов - декораций, причем самых разных, предостаточно. Русскую литературу - от великосветских раутов до клоак Достоевского - можно экранизировать почти без подготовки, но и для английских романов найдется фактура, и даже для русских сказок. Но если вдруг понадобится что-то итальянское, то задача усложняется. Ромео и Джульетта могут гулять в аркадах гостиных дворов Кваренги, балкон тоже можно подобрать, а вот где поместить плетущих интриги порочных кардиналов, жестоких герцогов, наемных убийц, продажных (или не очень) красавиц Рима XVI века? Дом эмира бухарского подходит идеально и фантастически: сквозные арки, мощь колонн, надменность громадной лоджии, тяжелые двери с металлом, порталы окон. На этом фоне и бархатные плащи, и окровавленные кинжалы, и ниспадающие шелка, и окаменелые взгляды, - все будет к месту. Получился бы такой жестокий декаданс.
Сила моды
Как случилось, что полувладыка Средней Азии заказал в1913 году архитектору Степану Кричинскому римское ренессансное палаццо, - загадка. Когда-нибудь выйдет подробная книга о Сеиде Мир-Алим-хане, но вряд ли и после нее станет ясно, что вдохновляло Кричинского. Может быть, он перенес сказочные рассказы про слепящую беспощадность бухарского двора на картинки из жизни Рима XVI века? Настроился на новеллы Проспера Мериме и их дешевые парафразы и создал настоящее римское палаццо? Гадать можно долго, но сила моды, вероятно, все же окажется самым убедительным ответом. В Петербурге 1910-х была мода на величавую неоклассику и на великого итальянца XVI века Андреа Палладио, отца всех классицизмов нового времени. Выпускники Академии художеств соревновались в масштабе и блеске стилизаций, но такого дворца, как этот, больше нет.
 |
| Сандрик – итальянский, чалма в медальоне – бухарская |
Да, "Аэрофлот" на Невском - мощный парафраз Дворца Дожей в Венеции, но уж больно грузный, дача Половцева на Каменном острове частоколом колонн перебьет не только все реальные постройки Палладио, но даже его проекты, на Каменноостровском же проспекте получилась феерия стильности. Дом настолько роскошен в целом и в деталях, что его - снимай не переснимай, только меняй освещение, ракурсы, играй тенями да реальными и постановочными эффектами. Такого пиршества светотени даже в петербургском барокко не сыщешь. И поставлен дом как настоящий римский дворец - мощное здание на узком проспекте. Все, как в Италии, где ренессансные дворцы вырастали среди зажатых строениями улиц, естественного наследия средневековья. Это в Петербурге так прониклись идеалами итальянских утопий, что разводили километровые просторы регулярной планировки, а в Европе пойди чего сломай на благо общества - частная собственность не позволит. Но к началу XX века и в Петербурге частному владельцу развернуться уже было сложнее, потому новые дома приходилось впихивать в пустующие участки. Также надо было думать о прибыли, посему это была не только резиденция эмира, но и доходный дом с двумя дворами (и какими!), поперечными флигелями и, соответственно, массой квартир.
 |
| Шувалово. Дача Воронцовой-Дашковой. |
|
|
Дворец, впрочем, от синтеза с наемными квадратными метрами только выиграл. Иначе такую махину было бы не построить. А так гигантский замысел развивается и трансформируется в глубину. По фасаду статные колонны в два этажа высотой, мощные каменные блоки руста на колоннах и порталах окон, изящная коринфская лоджия, аттиковый этаж, отступающий за карнизом, далее трехарочный проход в первый двор в целых три колонны глубиной. В первом дворе тройные эркеры, те же, что и на фасаде, шары на колоннах, фантастический вид на сиятельные окна главного зала piano nobile над арочной подворотней.
 |
| Царское Село. Федоровский городок. 1916 г. |
Второй двор попроще, но в наличниках окон дыхание изобретений Микеланджело все еще ощутимо. Кричинский демонстрирует настоящий вкус: все детали тонко разработаны, гибко меняются ступени звучности, даже капители колонн упрощаются по мере ухода в глубину. И это не вариация на тему какого-то определенного здания, это вольная фантазия на темы позднего Ренессанса. К примеру, когда Иван Фомин в те же годы (1913-1914) строил дом Абамелек-Лазарева на Мойке, 23, то это было явной отсылкой к палаццо Valmarana Палладио в Виченце (1565-1571). Строители Петроградского губернского кредитного общества и кинематографа "Сплендид-Палас" Борис Боткин и Константин Бобровский (нынешний Дом кино, 1914-1916) отчетливо апеллировали к Loggia del Capitaniato того же автора в той же Виченце (1565-1572). А Кричинский построил некий новый "римский дворец".
Театр Кричинского
Автор этой итальянской декорации, Степан Кричинский, и в других проектах был потрясающе театрален. Построил в Петербурге не так много, но зато все здания, как на подбор, годны для натурных постановок старорежимной оперы рубежа веков. Самые знаменитые ансамбли: Федоровский городок в Царском Селе (1911-1913) и Федоровский собор в конце Полтавской улицы (1911-1914) - воплощенная мечта Римского-Корсакова, сказочный Китеж-град. Недаром эти здания так нравились Николаю Второму - в них пересоздавалась старая Русь, где всё покойно, сказочно, неколебимо, никаких социальных волнений и тревог.
Характерно, что Федоровский собор Николай назвал "дивным". После революции этим постройкам не повезло - городок сильно пострадал в войну, а собор за Московским вокзалом превратили в молокозавод. Однако попорченные белокаменные кружева завораживают и сейчас, особенно в Царском. Любопытно, что для Николая Второго Кричинский делал декорации в стиле тех времен, когда Романовы еще были никем, и благодаря постройкам сближал их с Рюриковичами. Для княгини Е. А. Воронцовой-Дашковой Кричинский возвел в Шуваловском парке самый, наверное, последний дореволюционный дворец (1912-1915). Это своего рода приземистая элегия, такое чуть неуклюжее признание в любви к классицизму, золотому веку дворянства, ампирным усадьбам. Дом уютный, хотя и неповоротливый, сознательно неправильный, но в парке выглядит хорошо - там мог бы получиться пленительный "Евгений Онегин". А еще Кричинский сделал особняк П. Щербова в Гатчине (1910-1911), едва ли не лучший и наиболее оригинальный домик модерна в пригородах, очищенный от орнаментов, упрощенный по силуэту, терпкий по фактуре и потому как бы смотрящий в будущее. А его замкнутость и некоторая закрытость подошли бы для тихих символистских драм.
Но если во всех этих случаях понятно, как Кричинский выбирал стиль для заказчика, то с эмиром получился курьез. Похоже, владыка сам не знал, чего пожелать, и Кричинский отыгрался за него, воплотил свою мечту о палаццо. В наше время все пеняют на заказчиков, и в целом это правильно. Но и архитекторов, способных внедрить в сознание клиента свои фантазии, убедить его и реализовать придуманное на практике, маловато. Эмиру, впрочем, в доме пожить так и не удалось, но благодаря Кричинскому воспоминание о его могуществе и мнимом гранд-стиле осталось на века. Алексей Лепорк
 |
| Парадная лестница «эмирского» подъезда |
|