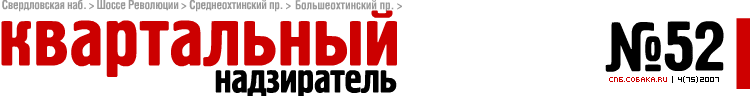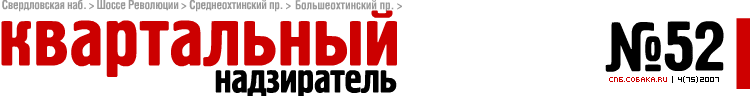|
 |
| Большеохтинский проспект в 1957 году выглядел как образцовый проспект социалистического города будущего |
"Восторженно описывают современники Александров Петербург. И действительно, если по старым планам и гравюрам воображением воссоздать его, он явится заманчивым видением…" Так писал в начале XX века один из мирискусников. Возможно, и послевоенный Ленинград удостоится в будущем похожих строк. И не потому что было тогда особенно спокойно или чисто, мало народу, никаких пробок на дорогах… Даже не потому что центр города не сильно пострадал в войну - гораздо больше было утрачено позднее, в мирное время. Главное, в те годы зодчие сумели достичь гармонии старого и нового, малого и великого, центра и окраин. И прежние задворки, вроде Охты, обрели - хотя бы на время - известную привлекательность, даже красоту. Возрожденный классицизм принес сюда строгий порядок; в 1950-е здесь строили не просто дома, но ансамбли, не дворы, но парки в миниатюре, и самые незначительные детали, вроде газгольдеров или трансформаторных будок, уподоблялись античным храмам…
 |
| Архитектор Армен Барутчев – глава мастерской, застроившей Охту |
Мирискусники упомянуты неслучайно. Ведь в то далекое от Серебряного века время жилая застройка питалась именно ностальгией по чудесным "старым годам" и старым усадьбам. Когда последователи Александра Бенуа заново возводили разрушенные войной пригородные дворцы, в архитектуре жилых домов утверждался все тот же безоглядный ретроспективизм. Были у этого движения вспять свои шедевры - вокзал в Пушкине, Дом ветеранов сцены на Петровском острове (грозящий в скором времени исчезнуть), детский сад на Мойке, 122, но и рядовые кварталы едва ли оскорбляли чей-то вкус. Говорят, что причины появления малоэтажных домов в конце 1940-х чисто технические, мол, строителям попросту не хватало подъемных кранов. Кранов не хватало, но малоэтажность оказалась тогда и художественной установкой. Районы эти сразу же стали ругать за провинциальность.
|
|
Но ведь строили не в центре, а на окраинах, там, где военные потери оказались наиболее велики - деревянные дома в Удельной, Новой Деревне или на Охте либо сгорели, либо пошли на дрова. Правда, разнообразия той малоэтажной застройке действительно не хватало. В этом она парадоксально сближается с хрущевской эпохой. Вообще же, начало типовой застройки было положено в войну - когда надо было быстро построить в тылу жилье для тысяч эвакуированных. Но после победы строительство на скорую руку, без привлечения зодчих, стало невозможным.
Районы города поделили между архитектурными мастерскими, Калининский (куда входила Охта) достался 4-й мастерской, возглавляемой Арменом Барутчевым. Поначалу зодчие лишь комбинировали кварталы из выработанных типов малоэтажек - неслучайно одинаковые дома можно встретить и в Удельной, и в Новой Деревне, но, например, не в Кировском районе, где использовали оригинальные проекты. Можно было варьировать лишь общий план да отдельные оригинальные детали, вроде полуциркульных оград или "барочных" порталов.
К началу 1950-х дома стали строить от пяти этажей и выше, а главное, удалось уйти от типовых проектов. Но хоть "ампирные" дома на Большеохтинском проспекте представительнее и индивидуальнее, они не слишком контрастируют с малоэтажным домиками. Иное дело после 1954 г., когда здание архитектуры основательно сотряслось. После партийного постановления о "борьбе с излишествами" на смену городу дворцов и парков пришел город бетонных коробок. Вы можете удивляться, но аскетичные полукруглые здания на Красногвардейской площади спроектированы тем же Арменом Барутчевым.
Следующий концептуальный прорыв произошел в 1970-е, когда проводился конкурс на застройку Свердловской набережной. В нем победил проект А. Васильева, предложившего набережную напротив Смольного не стилизовать под старину, а наоборот, контрастно подчеркнуть ее современность. Внушительный комплекс с гигантским протяженным фасадом взял устаревшие послевоенные кварталы словно в саркофаг. Вторжение новостроек в центр (а это был первый современный ансамбль, видимый из центра) - замысел для одного мастера слишком глобальный. Но и детали фабричного производства, и сами типовые проекты выбирал не он. Советских зодчих принято больше жалеть, чем осуждать - так много всего им мешало работать. Но жертвы здесь скорей не архитекторы, а жители созданных ими зданий. Иван Саблин
 |
| Среднеохтинский проспект и спустя полвека все еще сохранил малоэтажность |
|