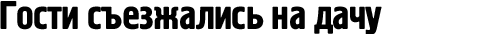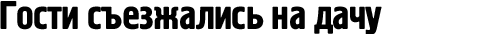|
В XVIII-XIX веках дворянин отдыхал душою в фамильной усадьбе. Там можно было жить круглый год в соседстве с природой и в то же время с огромной библиотекой, выписывать журналы, собирать картины, устраивать представления в домашнем театре. После Крестьянской реформы удержать за собой родовое поместье смогли немногие: крепостные больше не кормят, платить наемным работникам не по средствам, опыта рационального хозяйствования почти ни у кого нет. Вишневые сады вырубаются, привычный уклад ломается, хозяева вроде профессора Серебрякова из "Дяди Вани" не прочь сменить обременительное имение на "небольшую дачу в Финляндии". Легкомысленная дача не перегружена культурной памятью - дедовской библиотекой, старинными портретами, фортепьяно, тенистым садом, чудаковатыми слугами и романтическими девушками в белом (см. Тургенева, Гончарова, Бунина, картины Борисова-Мусатова, Поленова).
Зачастую это просто бесхитростный домик с палисадником недалеко от города. В отличие от усадьбы, где могли жить только ее владельцы и гости, дача доступна любому, кто способен заплатить за ее аренду, - профессорам, чиновникам, мелким служащим, лавочникам и, в складчину, даже студентам. На даче все соседи без чинов и живут совсем рядом. Если усадьба - место уединения, удаления от света, то дача - то же "общество", только занятое в основном развлечениями. Дачи в Царском Селе или Павловске традиционно считались великосветскими, участки в Шувалове в 1870-1890 годах раскупило купечество, интеллигенция, военные. Досуг был демократичен: концерты на музыкальном вокзале, любительские спектакли, скейтинг-ринг в "сарае" на месте нынешнего кинотеатра "Озерки", катание на лодках, прогулки в лес Удельного ведомства, поездки по линии Приморской железной дороги на скачки на Коломяжский ипподром.
Озерки совмещали публичные городские удобства (общественный транспорт, рестораны, клубы) с элементами деревенского житья. Сословные границы стирались - в Озерках соседями оказывались владелец машиностроительных заводов, "матерый" капиталист Густав Лесснер (Варваринская, 14, сейчас в его даче Дом юного туриста) и директор Консерватории Александр Глазунов (Варваринская, 2), писатель Николай Лесков снимал скромный домик на Софийской, 19, а на высоком берегу Среднего озера между Ольгинской улицей и Славянской набережной возвышался трехэтажный огромный особняк А. Оппенгейма - гласного губернского земства и члена правления "Шуваловского товарищества". Та сгоревшая в июне 1910 года дача звонко называлась "Вилла Бельмонт" и напоминала средневековый замок с зубчатыми стенами, с высокой башней-бельведером, на которой всегда развивался флаг. Из героев дачного фольклора мишенью острот был глава семьи, который, вывезя домочадцев в пригород, был вынужден каждый день таскаться на службу, а вечером возвращаться на дачу, обвешанный пакетами и свертками. Журнал "Дачник" летом 1912-го в разделе "дачная фауна" знакомил читателей с разновидностями "дачных мужей" - "верблюдом - животным вьючным, выносливым" и "оленем - дачным мужем, имеющим миловидную супругу".
|
|
Певцом Озерков оказался Блок, дачи не снимавший, но любивший приезжать на озера гулять. "Я страшно люблю Шувалово и Шуваловский парк, - писал он в 1917 году матери. - Как будто это второе Шахматово, и как будто я там жил, так что мне жалко уходить оттуда". Его героини - незнакомки под темными вуалями, цыганки, розы в бокале, берег очарованный и очарованная даль - все это озерковские мотивы, не случайно он подписывает под стихами точные даты - например, "24 апреля 1906 года, Озерки". По воспоминаниям Евгения Иванова, Блок, гуляя с ним "по следам Незнакомки", показал ему и "крендель булочный" на вывеске Шуваловского кафе, и "шлагбаумы" Приморской дороги, ресторан на Озерковском вокзале, где "пьяницы с глазами кроликов "In vino vertitas" кричат", а скрип уключин и женский визг сохраняются на озерах и сейчас, не подозревая, насколько они звучат по-блоковски. А.П.
Мария Пироговская
литературовед, о дачном тексте русской литературы
К тому времени, как в Озерках в 1880-х годах образовался дачный кооператив, в русской литературе уже сложилась система дачных типов, возник репертуар историй, которые могли произойти в определенное время и в определенном месте - летом, на даче. И Озерки приняли на себя литературную репутацию дачи вообще. Возникшая на стыке городской и сельской культуры, дача была населена собственным стаффажем - дачными мужьями, дачными ловеласами, охотницами за женихами, невежественными репетиторами, легкомысленными гувернерами, проститутками, гостями-прихлебателями, театралами-дилетантами и другими "типами", вызванными к жизни писателями-натуралистами. Отсюда выросли многонаселенные дачные главы "Идиота" и "Анны Карениной"; наблюдения Ивана Панаева над Новой Деревней вторят гончаровским характеристикам Выборгской стороны. Первый очерк дачных нравов еще в начале 1830-х дал Фаддей Булгарин, но и ко времени Чехова они не сильно изменились. Существуя в большой литературе, дачная публика, в том числе озерковская, из года в год давала пищу литературе малой - беллетристике.
Несколько десятилетий подряд зубастые петербургские фельетонисты вроде Николая Лейкина и Владимира Михневича снабжали прессу дачными очерками; это был популярнейший сезонный жанр, сатирические "этюды и кроки" публиковал даже локальный печатный орган - "Парголовский летний листок". Подобными очерками баловался и молодой Чехов - потом фельетонная фабула превратилась в гениальный рассказ "Невеста". У Блока, хорошо знавшего Озерки, тамошний быт вызывал судорожный интерес пополам с отвращением: в начале XX века дача становилась явлением культуры городской и массовой, то есть расхожей и "пошлой". Чем больше появлялось дачных местностей, тем сильнее они специализировались: люди предпочитали селиться рядом с себе подобными и по достатку, и уровню культуры. Но рядом с аристократической дачей в духе Набоковых, богемной дачей Леонида Андреева, Репина, Чуковского и профессорской дачей Бекетовых по-прежнему существовала дачная жизнь низкая, живая и вульгарная, описанная всеми русскими модернистами от Куприна и Горького до Ахматовой и Вагинова. Вот она-то Блока и занимала - благодаря своему сродству с мюзик-холлом, цирком, цыганщиной. Оторвавшись от усадебного, аристократического и "вечного" уклада, дача преследовала сиюминутные удовольствия. Хватала жизнь по верхам, стремясь за короткий летний сезон, успеть наполнить привычный распорядок новыми впечатлениями. Не крестьяне, не помещики, а так, мошкара, бездельники, - одним словом, дачники.
|
|