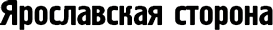
 |
| Мясник. 40
е гг. XIX века |
Район Садовой улицы и особенно Апраксин двор считались в Петербурге обиталищем ярославцев. Апраксин двор административно относился ко 2-му участку Спасской части. Население здесь было преимущественно крестьянское. В 1897 году крестьяне составляли 62,8 % всех мужчин участка, крестьянки – 53,0 % женщин. При этом 33,6 % крестьян были уроженцами Ярославской губернии (среди всех крестьян Петербурга ярославцы составляли 21,2 %). Выходцы из этой поволжской губернии славились как «петербургские янки» – именно они составляли большинство столичных торговцев. Ярославских мальчиков отдавали учениками в торговые заведения сразу по окончании ими сельской школы (26,7 % ярославских торговцев были моложе 18 лет). Обязательное условие занятия торговлей – умение читать, писать, считать, поэтому в Мышкинском уезде, например, будущие торговцы были грамотны на 98 %. Иногда мальчика отдавали односельчанину, приехавшему в деревню на побывку, иногда его брал с собой в столицу отец, служивший в торговом заведении, чаще же пристраивали мальчика «по родству и знати», то есть при помощи родных и знакомых, живущих в городе. В возрасте 16 – 17 лет мальчик кончал договоренный срок ученичества и становился подручным, то есть ближайшим помощником приказчика. Затем он становился младшим и, в случае удачи, старшим помощником, приказчиком, наконец – доверенным (первым замом владельца заведения, заведующим филиалом). 7,2 % всех торговцев составляли самостоятельные хозяева: шанс завести собственное дело в этом бизнесе был выше, чем в какой-либо другой профессии. Наибольшие возможности выйти в средний класс имелись в скупке скота и сена, торговле вразнос лесом и дровами, железом и строительными материалами, шорной и кожевенной торговле.
 |
| Молочница. 40
е гг. XIX века |
Ярославские торговцы, входившие в Ярославское благотворительное общество, участвовали почти исключительно в торговле предметами массового потребления: 45 % продавали съестные припасы (из них 34,1 % – мясо, дичь, рыбу; 24,9 % – овощи, зелень; 8,9 % – фрукты; 8,1 % – молочные продукты и яйца; 4,9 % – чай; 4,8 % – колониальные и бакалейные товары; 4,3 % – муку и зерно), 55 % – промтовары (из них 68,3 % – в мелочных лавках; 6,5 % – мануфактуру; 4,7 % – одежду и обувь), 3,5 % – занимались разносной и развозной торговлей. Большинство торговцев-крестьян жило в столице постоянно и приезжало в деревню только раз в несколько лет на побывку. Те же, кто в городе не уживался и возвращался домой, считались (а часто и были) неудачниками – «питерской браковкой».
Как писал в земскую газету крестьянин-корреспондент, «город разверзает свою ненасытную пасть и поглощает черноземную силу деревни; около 50 процентов ее, правда, выплывает обратно, но в каком виде? Это в большинстве случаев негодный отброс, зараженный и пороками, и болезнями больших центров». Те же, кто приезжает в деревню, «живут в отпуске, на кошелек глядя: если кошелек захромал и охота явилась ехать на промысел». Большинство от крестьянского труда «отвыкают и гнушаются… Старики и жены их косят, например, с восхода солнечного, а они спят до завтрака, готовят чай и завтрак и после его с подростками детьми косят сено ради удовольствия». Смысл побывки для большинства приезжих питерцев был в свидании с женами и детьми, в разлуке с которыми торговцы жили иногда годами. Только наиболее успешливые из них могли выписывать жену в город на время или навсегда. Средние заработки ярославских торговцев в Петербурге были: у самостоятельных хозяев – 88 рублей в год, доверенных – 31 рубль, приказчиков – 15 рублей, подручных – 12,5 рубля, мальчиков – 4 рубля. Квартира и харчи предоставлялись при этом за счет хозяина. Жили приказчики по нескольку человек в комнате, отдельное от хозяина помещение полагалось доверенным. Еда была обильной: мясо – 5 раз в неделю, 2–3 раза в день – чай. Главная сложность торговой деятельности – длиннейший рабочий день при почти полном отсутствии выходных. Рабочий день в торговых заведениях столицы начинался в среднем в полседьмого утра и продолжался до без четверти десять вечера, то есть всего 15,5 часа. Перерывы в работе не были специально определены, но в среднем продолжались по 2 часа. В праздничные дни торговля продолжалась 4 часа. Регламентация эта не касалась лавок, торгующих продовольствием, где работало большинство ярославцев. У них было всего три выходных дня в году: Пасха, Троица, Рождество, а в Прощеное Воскресенье, на Масленицу, в Фомино воскресенье (день годового расчета с хозяевами) работали с 12 часов дня.
Отношения между хозяевами и служащими носили патриархальный характер. Хозяин играл по отношению к «молодцам» роль строгого, но справедливого деревенского большака. После пасхальной заутрени разговлялись все вместе, дома у хозяина. Приказчикам лавочник жаловал по пятерке, мальчикам – по двугривенному. Перед Рождеством наступали в торговле самые горячие дни. Многочисленные петербургские чиновники получали наградные, все спешили обзавестись подарками к празднику. За несколько дней до Рождества молодцы собирали с окрестных торговцев деньги «на ложу» (театральную). В Рождество пили кофе с хозяином, а потом кутили, уже своей компанией, по трактирам. Общение приказчиков и хозяев и в Петербурге почти не выходило из тесного деревенского земляческого круга: «Вино, карты, поездки друг к другу в “гости” (тоже для этих двух удовольствий), целые земляческие заседания в квартирах и ресторанах, фланирование по улицам, садам, посещение пошлых театральных “новинок” – вот почти постоянное провождение свободного времени. Ежедневно, когда закрываются гостинодворские, апраксинские и мариинские торговые заведения, служащие которых почти сплошь угличане, все окрестные трактиры, рестораны, пивные кишмя кишат сбросившим с себя трудовую лямку людом. Возьмите хотя бы традиционную, пресловутую “Ягодку” (трактир внутри Апраксина двора, – Л. Л.): в это время она переполнена угличанами; это их сборный пункт, клуб, что хотите… Тайная мечта буквально каждого угличанина – сколотить копейку в этом Петербурге и как можно скорее уехать “на спокой в деревню”… Скупой, практичный и эгоист по отношению к другим – для земляка, если случится, угличанин сделает все. С большим или меньшим кругом своего знакомства угличанин не пропадет. Его, безработного, и поить, и кормить будут, и уложат на одной кровати, и в деревню отправят» (А. Мехов. Землячество – сборник «Угличанина».
 |
| Группа участников крестного хода с иконами и хоругвями у торговых корпусов Большой линии. Фото Булла, 1912 г. |
Из ярославцев-апраксинцев отметим семенных торговцев: гласного Думы, заведующего Преображенским кладбищем, церковного старосту, владельца лавки на Мариинском рынке А.А. Маслова (он родился в Воржской волости Ростовского уезда и в 1895 году 33_х лет записался в петербургское купечество); его земляка П.И. Трусова – домовладельца, хозяина трех лавок на Мариинском рынке и владельца четырех лавок там же потомственного почетного гражданина М.А. Уткина. В 1866 году ярославцам принадлежало 149 фруктовых и бакалейных лавок (32,9 % их общего числа в столице). По переписи 1869 года 80 из 247 владельцев таких лавок (32,4 %) и 978 из 1499 приказчиков в них (65,2 %) были ярославцами. Больше всего фруктовщиков шло в Петербург из Романо-Борисоглебского (Артемьевская волость) и Угличского (Ермоловская и Покровская волости) уездов. В начале XX века ярославцы сохраняли преобладающую роль во фруктовой торговле города в большей степени, чем в каком-либо другом виде торговли. Ярославцы контролировали деятельность располагавшихся в Апраксином дворе Фруктовой, чайной, винной и Рыбной бирж (16 членов биржевого комитета, в том числе председатель – И.В. Черепенников, товарищ председателя – Ч.Г. Бродович, казначей – С.И. Буштуев). Иван Черепенников – крупнейший петербургский фруктовщик, уроженец села Селище Романо-Борисоглебского уезда. С 10 лет в столице мальчиком во фруктовой лавке односельчанина. С 1863 года приказчик в лавке на углу Бассейной улицы и Литейного проспекта, которую затем купил у хозяина (в долг). К началу 1880_х годов – владелец 25 фруктовых лавок со 150 служащими и оптового склада в Апраксином дворе, в течение 9 лет исполнял обязанности старосты Сергиевского всей артиллерии собора. «Можно сказать, не преувеличивая, что не только из его села, но и из других деревень в течение многих лет мальчики его стараниями и заботами были устраиваемы на места. Иная баба верст двадцать чешет в Селище, дабы узнать, когда приедет “родимый” на родину; она спокойна: у нее подрос сынишка, и “родимый” наверное куда-нибудь его упоместит…» Большие участки земли, приобретенные им на родине, были отданы для обработки землякам, причем арендная плата никогда не взыскивалась. Черепенников пожертвовал деньги на строительство двухклассной школы и богадельни в Селище (он был попечителем обоих этих учреждений). Дело Черепенниковых после смерти отца перешло к сыновьям Александру и Ивану Васильевичам, владельцам 11 магазинов колониальных товаров и 12 чайных лавок, пяти доходных домов (трех на Литейном, по одному на Фонтанке и Невском). Владельцем другой процветающей фирмы по продаже колониальных товаров «Латынина Ивана сыновья» был в начале века другой ярославец, А.И. Латынин – глава петербургских старообрядцев-федосеевцев, гласный городской Думы, председатель правления Мариинского торгового общества, председатель хозяйственной комиссии Волковской богадельни (фактического конфессионального центра федосеевцев в Петербурге). Фирме Латынина принадлежало 5 лавок на Мариинском рынке и два гастрономических магазина в собственном доме на Забалканском и на углу Казанской и Гороховой.
 |
| Треугольный корпус (ныне – корп. № 49). Мануфактурные товары Сергея Михайловича Грудинкина. После смены владельцев был проведен капитальный ремонт и реконструкция части здания нового респектабельного стилевого архитектурного облика, нового масштаба, угловой доминанты. Утрата металлических галерей. Фото до 1914 г. |
Ивану Крючкову (о нем подробнее во втором выпуске «Надзирателя»), многолетнему председателю Ярославского благотворительного общества, принадлежало пять лавок на Апраксином рынке, три на Мариинском и два доходных дома на углах Матвеевской с Большим проспектом и с Большой Пушкарской улицами. Значительную роль в торговле фруктами играл и клан купцов В.А., И.Г., С.И. и Ф.А. Буштуевых (11 лавок в Апраксином дворе; одна на Мариинском рынке, два доходных дома на Гороховой, дом на 8-й Рождественской). Родоначальник династии Александр Степанович Буштуев принадлежал к крестьямам деревни Черной Покровской волости Угличского уезда. Своеобразной биржей по оптовой торговле фруктами и ягодами был распололоженный в Щукином дворе трактир «Ягодка»: «...сюда приходят и крупный садовладелец, самолично привезший плоды на продажу в Петербург, и содержатель фруктового магазина, и мелкий разносчик. Усевшись за столик где-нибудь в укромном местечке и потребовав порцию чаю, посетители ведут между собой деловой разговор, нередко шепотом, чтобы не разгласить коммерческую тайну. В особенности большое оживление в этом трактире бывает в ягодную пору, когда торговля имеет спешный характер, а также во время фруктового сезона, когда в столицу приезжают арендаторы и владельцы садов»* . Известно, что «Ягодка» служила своеобразным центром ростовцев и, в особенности, угличан, проживавших в столице (другим таким центром был Спас-на-Сенной). Корзины, сделанные из сосновой дранки в виде ящиков для упаковки ягод, посуды, яиц и других хрупких или легко повреждающихся товаров, широко употреблялись в магазинной торговле города. Их производство сосредотачивалось в основном в Апраксином переулке. В 1869 году этот промысел в столице был почти полностью монополизирован ярославскими крестьянами (21 из 29 хозяев корзиночных мастерских и 173 из 273 рабочих в них). Подавляющее большинство из них (98,3 %) отправлялось в столицу из трех волостей, лежавших на стыке Романо-Борисоглебского, Пошехонского и Даниловского уездов* . Отход здесь не был сезонным, корзины в магазины требовались постоянно. Широко применялся труд подростков – четверть корзинщиков была моложе 18 лет. Ученье продолжалось два_три года, причем в это время мальчикам жалования не полагалось. Подмастерье зарабатывал от 10 до 14 рублей в месяц на хозяйских харчах. Жили работники в помещениях мастерских. Работа продолжалась 13–15 часов чистого времени в день. В день рабочий изготавливал в среднем 60 корзин из сосновой дранки. Технология работы была сравнительно несложной, инструмент стоил 5–10 рублей и поэтому среди корзинщиков было довольно много cамостоятельных хозяев (5,7 %, или 38 человек). Одиночка зарабатывал в год до 300 рублей, хозяин в среднем – 1200. Другой областью, в которой ярославцы добились заметных успехов, была торговля металлом. А.А. Варгунин, крестьянин Березниковской волости Ростовского уезда, содержал 48 таких магазинов (а кроме того, 4 москательные лавки и 6 лавок по продаже железа), Ф.И. Кондратьев – 9, И.А. Семенов – 25. Кроме упомянутого нами Варгунина, заметны на этом рынке были апраксинцы: купцы 1_й гильдии В.П. Барашков («продажа домоприборов, железа кровельного, рельсов, балок, гвоздей, каминов, печей, замков, петлей и проч.»), И.А. Баусов (домовладелец и церковный староста), Е.Е. Глухарев (8 доходных домов, староста церкви, благотворитель).
|