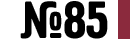ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: О КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
Дворец искусств
Путешественника, приехавшего в Петербург в начале XIX века, могло удивить, что здание Академии художеств величественнее и масштабнее императорской резиденции. «Вот отгрохали-то, – должен был подумать он, – храм искусств и просвещения».

Иоганн Георг Майр. Вид на Академию художеств и Кадетский корпус. 1802 год
днако за стенами этого грандиозного дворца искусств творилось в то время много дурного. Поскольку учеников Академии набирали шести-семи лет от роду на полный пансион, этот заповедник по выведению «нового человека» больше походил на тюрьму для малолетних преступников, притом ни в чем не виноватых! Бедность родителей, а также, возможно, их надежды вывести детей в люди через «служение муз» обрекали юных воспитанников на печальную судьбу жертв эксперимента, подразумевавшего полную изоляцию от дурного влияния внешнего мира, а значит, и от какого-то контроля извне. Учеников обкрадывали и морили голодом. Ну и заодно учили искусствам – рисунку, живописи, лепке, к которым многие из них не имели склонности, ведь в том возрасте, когда их брали в Академию, определить наличие таланта непросто, да на это и не обращали особого внимания. Не случайно из стен сего учебного заведения при Иване Бецком – президенте Академии и всесильном вельможе, одержимом просвещенческими амбициями, – не вышло ни одного крупного художника и, за исключением, быть может, Андреяна Захарова, ни одного великого зодчего, и это в эпоху высочайшего расцвета русской архитектуры! Эффектный фасад скрывал те самые пороки, от которых рассчитывали оградить молодых людей создатели величественной тюрьмы.
Творцы
В этом едва ли повинны зодчие – одновременно строители здания Академии и первые преподаватели архитектуры в нем – француз Жан-Батист Валлен-Деламот (1729–1800), приехавший в Россию по приглашению русской императрицы, и Александр Кокоринов (1729–1772). Судьбы их оказались очень разными, но равно трагическими. Первый по прошествии пятнадцати лет безупречной службы пожелал вернуться на родину, где его карьера не сложилась. Еще не слишком старый человек, он частично ослеп, его разбил паралич, а назначенную в России пенсию перестали выплачивать после разрыва (вследствие революции) дипломатических отношений. Зодчий умер в нищете и безвестности, ведь лучшие его творения находились вдали от Франции. Что же до Кокоринова, то он особой славы как зодчий не снискал, при том что по отъезде Деламота не просто взял на себя руководство строительством здания, но и постарался присвоить себе авторство. Архитектора несправедливо обвинили в растрате, отчего он вскоре умер или, согласно легенде, повесился – на чердаке недостроенного здания Академии. Еще лет десять назад студентам являлась его беспокойная тень, с тех пор чердак закрыли. Таким образом, ни один из авторов не смог увидеть Академию завершенной, насладиться красотой и величием своего творения. Кстати, развенчанный было в начале XX века, в советское время Кокоринов снова выдвинулся на первый план, когда партийным идеологам понадобилось, чтобы у истоков русского классицизма стоял выходец с Урала, а не какой-нибудь уроженец французской провинции Анжу.
Впрочем, в нынешнее время, когда иной жилой дом может занимать место в несколько раз большее, нежели целый квартал старого города, размеры Академии уже не производят особого впечатления. А в эпоху Просвещения таких учебных зданий не было нигде. Заказчики и строители опередили свое время, ведь это в следующем веке столицы Европы украсят многочисленные «дворцы искусств» (музеи, выставочные залы). И даже Французская академия, послужившая прототипом всем другим, включая эту, обзаведется собственным зданием лишь при Наполеоне, а нынешняя ее резиденция, куда более скромная, нежели петербургская, относится вообще к 1840-м годам.

Алексей Венецианов. Портрет инспектора Кирилла Алексеевича Головачевского с воспитанниками Академии. 1811 год. За эту работу, заказанную Академией, самоучка Венецианов смог получить звание академика живописи
Похоже, что ведущий теоретик французского академизма Жак Франсуа Блондель предавался несбыточным мечтаниям, когда создавал проект здания для Академии художеств, который отослал затем в Россию, узнав о планах построить там нечто подобное. Ему предлагали приехать и самому, взять на себя преподавание архитектуры, но он порекомендовал своего двоюродногобрата – Валлен-Деламота, не пожелавшего, впрочем, строить по чужому проекту и создавшего собственный, еще более масштабный. Не многое в этом варианте напоминало Францию: вместо П-образной композиции знаменитого родственника – замкнутый блок с несколькими внутренними дворами. А строгая колоннада на фасаде (от нее впоследствии пришлось отказаться) сочеталась с центральным ризалитом криволинейных очертаний, близким к архитектуре барокко. Того настоящего, итальянского барокко, что занес в Россию еще при Петре строитель стрельнинского дворца Никколо Микетти, а затем в начале царствования Екатерины II возродил Антонио Ринальди. Более строгого, нежели его северные изводы, сдержанного в деталях и дерзкого во всем, что касается построения пространств.
Однако казалось, что и такого барокко французские зодчие были совершенно чужды, гордясь тем, что хороший вкус и разумные правила, для поддержания которых как раз и создавали академии, оберегают их от крайностей, коим подвержены другие народы. Они, конечно, тоже стремились в Италию, но в этой стране их интересовали лишь древности, а уж никак не современное искусство. Вот и Деламот отчитался о пребывании в Риме «ссылками» на античные образцы: монументальной аркой Новой Голландии и, возможно, порталом костела на Невском.
|
|
Итальянский прообраз
Необычный факт: в бытность свою в Италии Валлен-Деламот посетил зачем-то Неаполь – город, еще не ставший тогда археологической столицей Европы, ведь многочисленные руины в его окрестностях не были широко известны, а Геркуланум и Помпеи раскапывали тайком, не допуская посторонних. Просвещенной Европе только предстояло открыть юг Италии, слывший тогда изрядной дырой. Что же привлекло в Неаполитанском королевстве Валлен-Деламота? Как ни странно, новейшие достижения барокко: резиденция короля в окрестностях Неаполя – в Казерте.

Последний великий дворец Европы – неаполитанская Казерта (на фото сверху) – чем-то близок к Академии (на фото
снизу), первому зданию, к которому слово «дворец» применимо лишь фигурально
По идее, это еще одно подражание Версалю – прекрасный дворец и парк – должно было вызывать у французов высокомерно-пренебрежительное отношение. Они говорили, наверное, что к достоинствам Казерты можно отнести лишь прекрасные пейзажи, каких нет близ Парижа, и окрестные горы, обеспечивающие, в част ности, стабильный напор воды. Впрочем, зодчий подметил, что этот только что завершенный ансамбль отличается несравнимо большей цельностью, нежели резиденция французских королей. Что это единственный фонтанный парк, где архитектура дворца не вызывает разочарования после встречи с водной феерией, в отличие от его основного прототипа и, увы, Петергофа. Похоже, повсюду устройство фонтанов отнимало столько творческих сил, что на придание эффектного облика дворцу их уже не оставалось. И только в Казерте дворец ничуть не менее прекрасен, нежели фонтаны, парк, природа…
Именно дворец мог заинтересовать Деламота и в практическом плане, ведь едва ли ему где-нибудь могла представиться возможность повторить весь ансамбль: век Версалей прошел, и только в отсталом королевстве на юге Апеннинского полуострова могли еще желать чего-то подобного. Скромный сад позади Академии художеств – вот все, на что мог рассчитывать зодчий в России. Зато здание по размерам вполне сопоставимо с
неаполитанским дворцом. Забавно, что Ринальди, трудившийся на строительстве Казерты под руководством автора – Луиджи Ванвителли, но, правда, покинувший Неаполь раньше, чем туда попал Деламот, не смог перенести эти идеи на русскую почву: и Мраморный, и уж тем более Китайский дворец, построенные им, гораздо скромнее. А Деламот, пассивный зритель в Италии, в России стал автором второй Казерты, точнее, творческой вариации на заданную итальянцами тему.
Крест и круг
В основе композиции итальянского дворца – вписанный в прямоугольник крест, а в его середине – восьмигранник. Через него проходит основная
ось ансамбля, отсюда можно пройти и на главную лестницу, и в четыре парадных двора. У Валлен-Деламота вместо креста – круг, самый большой
в мире круглый двор. Малые дворы сдвинуты к углам, а мотив восьмигранника перенесен в вестибюль. Он, правда, круглый в плане, но восемь
столбов придают ему сходство с Казертой. Здесь также появляется похожая итальянская лестница. Вестибюль напоминает и другой итальянский
дворец – палаццо Кариньяно в Турине. Особенно близок к творению великого Гварино Гварини эффект прорывающегося невесть откуда света в
верхней части лестницы.
Итальянский вестибюль Академии в последующем претерпел изменения, вызванные необходимостью приспособить его к Петербургу, где почти все время холодно и темно. В XIX веке заделали проезд во двор, устроив тамбур, а совсем недавно сделали скромные светильники, совершенно уничтожающие упомянутый световой эффект. Незаметной стала и скрыто присутствовавшая в нем идея: поднимаясь из сумрачного вестибюля на второй этаж, посетитель Академии попадал на залитую светом верхнюю площадку с ее строгой классической архитектурой, точно олицетворявшей победу разума над чувствами, классицизма над барокко. Теперь же, восходя по лестнице, посетитель музея АХ обращает внимание на графа Шувалова с железной десницей – творение скульптора Зураба Церетели, властно заявившего свои права на достойный лучшей участи прекрасный парадный двор. После многочисленных переделок XIX и XX веков от Валлен-Деламота в здании осталось не много. И все же дух далекой Италии живет здесь, причудливо сплетаясь с прежними и новыми идеями академизма. И. С.
|
|
|
|
|

И. И. Шувалов (1727–1797) И. И. Бецкой (1704–1796)
Иваны Ивановичи
У истоков петербургской Академии художеств стояли два Ивана Ивановича, которых в равной мере можно считать ее основателями. Деятельность Шувалова, фаворита Елизаветы, неизбежно впавшего в немилость при следующей царице, рассматривали затем как фальстарт. Академию, основанную им в 1758 году в Москве, называли частным заведением, а годом основания государственной школы искусств считали 1764-й, время прихода Бецкого. И если шуваловская Академия просуществовала всего шесть лет, то Бецкой руководил переформатированной Академией целых три десятилетия – почти до конца правления Екатерины, пережившей его на год. Обе эти незаурядные фигуры принадлежали всецело эпохе Просвещения, но вот идеалы ее понимали и реализовали по-разному. В пору своего фаворитства всесильный Шувалов был скорее меценатом, чутким к потребностям эпохи и готовым тратить личные средства, если не хватало государственных. Именно благодаря ему первый русский университет появился также в Москве, а не в Петербурге. И Академия, изначально задуманная как его филиал, действительно существовала в основном на пожертвования Шувалова, более того, одно время – в его доме в столице (угол Итальянской и Малой Садовой улиц). Первым талантливым выпускникам, одним из которых был столь же выдающийся, сколь и загадочный Василий Баженов, Шувалов оплатил заграничную поездку. Иное дело Бецкой, человек далекий от реальной политики, но претендовавший на занятие особой ниши – пионера педагогической науки в России. По сути, это тип инициативного чиновника, готового экспериментировать на ни в чем не повинных людях. Идея совершенствования изящных искусств в России его не привлекала, Академию художеств, задуманную как обычное высшее учебное заведение, он превратил в еще один полигон для выращивания «новых людей», для чего при ней было устроено Воспитательное училище, закрытое только в 1840-х годах. Отныне к занятию художествами предлагалось готовить чуть ли не с младенческого возраста, и лишь те, кто выдерживал педагогические эксперименты, мог рассчитывать затем на получение творческой профессии.
Краеугольная идея педагогики Бецкого – изоляция юных учеников от дурного влияния их родителей (вполне большевистская!) – вероятно, отчасти объяснима фактом незаконного рождения «просветителя», очевидным по его ущербной фамилии (от Трубецкой).
|
|